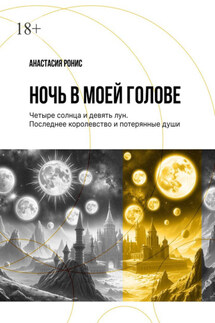Наследие Рима. Том 2. Kрестовые походы - страница 3
во-вторых, суть в том, что в обоих случаях язык религии не был культурныи дискурсом, который конструирует религиозную войну как законный институт, а религиозного воина – как законного участника (по крайней мере, в глазах значительной части соответствующего населения).
Мы не хотели бы слишком углубляться в параллели. Но суть в том, что в обоих случаях язык религии не был дымовой завесой для реальных (социально-экономических) мотивов; это было настоящeй религиозной идентичностью. Плохая новость заключается в том, что мы, специалисты по международному отношению, до сих пор не воспринимали религиозную идентичность как причинно-следственные связи, особенно когда дело касается объяснения организованного насилия; хорошая новость заключается в том, что, поскольку у конструктивистских ученых-исследователей в области IR уже есть инструменты для решения вопросов, связанных с взаимосвязью интересов и интересов, барьеры для «привлечения религии к международным отношениям» являются относительно низкими.
«Крестовые походы оказали решающее влияние как на формирование западноевропейского взгляда на исламский мир, так и на выработку мусульманского восприятия Запада. В результате стереотипный образ старого «врага» глубоко укоренился и потому должен быть извлечен на свет и тщательно изучен, чтобы быть понятым и откорректированным. Нет никаких сомнений, что пришло время уравновесить западноевропейский подход мусульманским взглядом на события Крестовых походов9.
Райли-Смит верно определяет суть проблемы, когда пишет, что история латинского Востока была бы иной, если бы исламоведческим исследованиям было уделено должное внимание: «Удивительно, насколько второстепенными они до сих пор оказывались: сколько историков Крестовых походов побеспокоились о том, чтобы выучить арабский?»
Далее Райли-Смит также критикует и позицию самих ученых-исламоведов, «большинство из которых не придают Крестовым походам и латинским поселениям особого значения». Таким образом, обе стороны должны быть лучше информированы. Несомненно, что многое может быть сделано современными историками мусульманского Средневековья, занимающимися периодом Крестовых походов.
Подобные изыскания могли бы пролить свет на целый ряд исторических проблем в различных областях: военной истории, в истории религиозно-политических систем и эволюции пограничных сообществ. Но прежде всего это вопрос формирования двусторонних социокультурных отношений между Ближним Востоком и Западом, отношений, которые во многом сохранились вплоть до настоящего времени.
Необходимо учитывать ту роль, которую сыграл восточный мусульманский мир в целом, в особенности принимая во внимание военную и идеологическую роль тюрок, незадолго до этого обращенных в ислам, а также наследие империи Сельджуков, сохранившееся в Сирии и Палестине.
Хотя арабы-мусульмане сегодня нисколько не сомневаются в том, что почти все великие воины джихада (муджахидун), которые в конце концов одержали победу над крестоносцами, – Зенги, Hyp ад-дин, Бейбарс, – были тюрками, этот факт не получил должного признания. Bероятно, из-за нескольких веков господства турок-османов в арабском мире, которое началось вскоре после Крестовых походов. Арабы Леванта традиционно с отвращением относятся к этому периоду, и, возможно, здесь и кроется причина их нынешнего пренебрежения тюркскими подвигами в эпоху Средневековья. Стоит отметить, что неарабские ученые исламского мира – турки, курды, персы, пакистанцы и другие – никогда серьезно не занимались проблемой реакции средневековых мусульман на Крестовые походы. Таким образом, из современных мусульман изучением этого вопроса интересуются исключительно арабы».