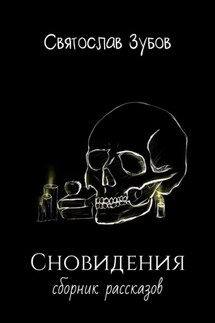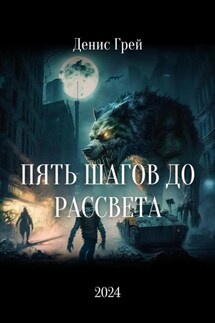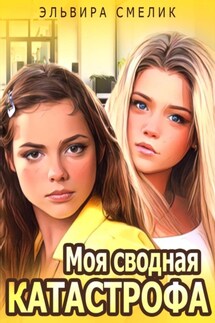Не пойман – не тень - страница 31
– Простите, что прерываю. Просто другим гостям тоже нужно попрощаться.
Профессор чуть наклонил голову, не ответил, но отступил. Сделал шаг в сторону, потом ещё один. Почувствовал, как пятка зацепилась за край ковра – и это было настолько обыденно, что сбило волну. Он снова стал телом, стал функцией. Перешёл в режим движения, где эмоции прячутся в автоматизм.
Он не обернулся. Не сел. Не стал говорить с Игорем или кем-либо ещё. Просто отошёл к дальней колонне, встал в тень. И смотрел. Теперь уже со стороны. На людей. На венки. На то, как гроб готовят к выносу. На то, как смерть становится процессом.
Он больше ничего не чувствовал. Но знал: внутри образовалась пустота. Не от шока. Не от боли. А от окончательного, бесповоротного понимания – теперь уже никогда. Не будет возможности объясниться, вернуть, продлить, даже мысленно. Всё завершилось. Всё, что было важным, не стало явным. А то, что осталось – память. И тишина. Тишина, с которой теперь придётся научиться жить.
Он стоял в тени колонны, будто специально выбрал место, где свет падал рассеянно, и можно было наблюдать, не участвуя. Процессия длилась, люди подходили к гробу поодиночке и парами, возлагали цветы, склоняли головы, кто-то осенял себя крестом, кто-то просто молча стоял. Время тянулось вязко, словно замедленное траурной атмосферой, в которой даже шорох одежды звучал как нарушение.
Профессор всё реже ловил себя на мыслях, чаще – на ощущениях: сухость во рту, напряжение в плечах, слабый зуд в ладонях от желания что-то сжать, уцепиться. Он почти не замечал лиц, но когда в поле зрения появился Михаил Борисович Сомов, ректор университета, Сергей внутренне напрягся. Тот подошёл не сразу – сначала обменялся парой слов с кем-то из преподавателей, потом уверенно направился к Воронину.
– Сергей Андреевич, – начал он сдержанно, как будто репетировал заранее, – Алла была достойным человеком. Тихим, интеллигентным, настоящим исследователем. Таких сейчас мало. Потеря для университета, безусловно.
Слова были правильными. Ни на полтона в сторону. Ни одной ненужной фразы. Сомов говорил как человек, который знает, что сказать надо, и знает, как именно это должно звучать. В этом и была проблема. Профессор почувствовал, что за формальностью скрывается что-то иное – не холодность, а дистанция. Как будто ректор интуитивно ощущал: между ним и покойной было что-то, о чём он не должен знать, но уже подозревает. Или хочет дать понять, что догадывается, не вдаваясь в подробности.
– Спасибо, Михаил Борисович, – произнёс Воронин так же безупречно, с лёгким кивком. – Я тоже очень ценил её. И как человека, и как специалиста.
Сомов кивнул, посмотрел мимо и ушёл, не добавив больше ни слова. Диалог закончился как служебная записка: вежливо, но без следа личного. И именно в этом ощущалась отстранённая прицельность, будто ректор проверил его реакцию, не вслух, а взглядом.
Следующей была Алёна Лукина. Она прошла мимо гроба, почти не задержавшись, бросила один-единственный цветок – белую лилию – и сразу направилась к выходу. Но, проходя мимо Сергея, замедлилась. Глаза её были скрыты за дымчатым стеклом очков, но он ощутил, как она смотрит на него – не прямо, а краем взгляда, как бы оценивая, не приближаясь слишком близко.
Она не сказала ни слова. Только кивнула. И в этом кивке не было ни признания, ни поддержки. Было что-то холодное, анализирующее, сдержанное. Профессор ощутил: она знает. Не всё, конечно. Но достаточно, чтобы испытывать внутренний протест. Лукина была принципиальна. Он уважал это в ней. Но сейчас эта принципиальность стала орудием – неосознанным, но точным.