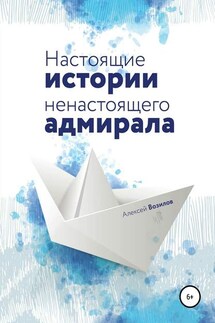Не просто Михалыч… - страница 18
В порядке иллюстрации очень сжато Михалыч поведал крайне любопытный факт: «Дед Алексей Никифорович Кулагин, 1861 года рождения, участвовал в японской войне. Вернулся оттуда, затем воевал в Первой мировой войне, попал в немецкий плен в 1914 году. Приехал домой в 1920 году. Затем в период Великой Отечественной Войне фашисты снова повезли его и еще одного старика в концлагерь, в повторный немецкий плен. Так эти боевые старики ухитрились обмануть охранника, и убить его (Михалыч усмехнулся и подчеркнул – «утопили в бочке с водой, в которой он мылся»). Затем сбежали, выпрыгнув из теплушки по ходу движения поезда. Дед вернулся домой зимой за тридцать километров босиком, и до освобождения потом прятался, не попадая на глаза оккупантом».
Даже такой очень сухой рассказ о многом говорит о личности и самого деда, и о том воспитании, которое было в роду. Михалыч завершил, сверкнув глазами: «Деду тогда было восемьдесят лет!».
В завершение единственной строкой – существует известное высказывание-пожелание «не посрамить рода своего». На мой взгляд, оно свойственно всем известным мне членам династии Супанько…
Домашние питомцы
«Зачинается рассказ…»
Крохотное отступление: довольно-таки распространенное мнение среди многих народов разной степени развития – и чересчур «урбанизированных», и «все еще сельчан», что по отношению человека к животным и к детям возможно с большой точностью сделать выводы о личности этого самого человека. В моем персональном случае это не просто бездумное следование общепринятым поверьям, а практически научный анализ и вывод из собственных исследований. Поясню неосведомленным читателям: по первому образованию я биолог, со специальностью «сотрудник заповедника». Более того, моя дипломная работа была связана с элементами зоопсихологии.
Поэтому легко понять, что давно подметил импонирующую мне черту характера своего героя. С первых дней нашего с ним близкого знакомства, если, конечно, отбросить в сторону период «шапочного», когда еще не осмеливался запросто ходить в гости к нему домой, обратил внимание на факт: у Михалыча всегда и везде были свои питомцы в виде домашних и «не очень прирученных» животных.
Что за странное замечание?
Про его удивительного любимца, экзотического не только для степного Туркменистана, но и во многих иных странах, многометрового питона далее будет отдельный очерк. А сейчас хотел бы привлечь внимание читателей к свинье…
Хрюня
Да нет, не спешите поднимать брови вверх в недоумении «Нашел, чем удивить!? Их на любой ферме десятки». Речь-то не об обычной хавронье, а о дикарке Хрюне.
Впервые о ней я услышал лет двадцать пять назад, когда мы с Курбаном и Михалычем мастерили плот из «баклажек» на насосной станции восточнее бывшего совхоза «9 Ашхабадских комиссаров» (новое название населенного пункта вряд ли известно кому-то из бывших и нынешних ашгабатцев). Долгие летние дни и вечера у нас тогда проходили в бесконечных дружеских беседах и поучительных байках «непосредственно из жизни».
В какой-то из дней Саша заговорил о своей любимице Хрюне и ее встрече с громадным алабаем (среднеазиатской овчаркой) на площадке между домиками той самой «насоски».
Так получилось, что в ходе одной из своих охот на кабанов, на которых он охотился (сорри за тавтологию) с большим азартом, с искренней страстью и очень даже умело, Михалыч подобрал в камышах живого дикого поросенка с четкими полосами на спинке. То есть, совсем маленького. Привез его к себе на работу, где у него было что-то вроде фермерского хозяйства – небольшие пруды с рыбой и, чуть поодаль, просторная бахча и небольшой огород с «укропом и петрушкой». Выкормил питомца, который через несколько месяцев или через год превратился в крупную, ладную свинушку, бегавшую за своим хозяином как ручная собачонка. Насколько помню его рассказы, для нее был подготовлен какой-то специальный закут-загон, однако она всегда бродила вокруг насосной станции свободно, даже не помышляя уходить сколько-нибудь далеко.