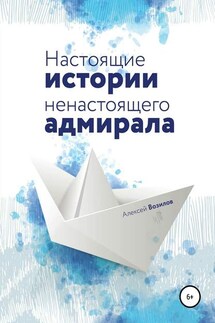Не просто Михалыч… - страница 19
Затем в какой-то из дней мимо по дороге проходил чабан, кош1 которого был расположен недалеко от данной станции и далековато от села. При этом его сопровождал алабай, которого, как выразился Саша, хозяин вроде даже тренировал для будущих собачьих боев. Увидев в стороне Хрюню, этот мужик решил «дружески» предупредить: «хей, убэри свинья. Собака злой, загрызет».
Михалыч ответил: «пусть попробует». И крикнул: «Хрюня!». Представьте себе вытянутый треугольник, в условных вершинах которого стояли участники данной курьезной сценки.
Хрюня что-то искала, роясь в корнях густых зарослях, и чавкала там чем-то найденным в ходе раскопок, но, едва услышав голос хозяина, подняла голову и устремилась напрямую к нему, не обращая ни малейшего внимания на «грозного» пса. Она бежала, оставив слегка в стороне чабана с его собакой, то есть, вообще мимо, не к ним.
Пес с визгом, поджав хвост, ломанулся вбок, при этом повернув голову назад и не отводя взгляда от «атакующего» дикого зверя. Естественно, он не заметил растущие камыши на своем пути и воткнулся в плотные заросли на полном ходу.
Вот теперь нужно передать слово Михалычу, но прежде остро необходимо оттенить его умение рассказывать, точнее, «показывать», в деталях и красках, происходящее и произошедшее. Что превращает его в уникального и непревзойденного балагура и рассказчика. Он ведь именно показывает все действо – жестами, интонацией, отклонениями в сюжете, поэтому слушатель мгновенно превращается в свидетеля и прямого очевидца событий, даже если он «и рядом не стоял». Соответственно, это еще одна весомая причина, почему его байки не всегда получается, если вообще удастся в будущем кому-либо из возможных слушателей-писателей, переложить в оформленные строки очерков и коротких рассказов.
Как передать словами «запахи и интонации», подскажите, пожалуйста!
Возвращаясь к описываемому эпизоду, вернее, к стилю повествования Саши. Он вскочил с места, слегка повернул голову и вроде даже уперся подбородком в свою грудь, и, работая локтями, «показал»: «алабай врезался в камыши и еще больше перепугался. Что-то его держит, а посмотреть не получается, не может повернуть голову вперед – шею зажало в повернутом положении. А ноги продолжают бежать, мелькают как шарниры паровоза».
В этом месте беседы для наглядности Михалыч усиленно заработал локтями – показать, как именно дергались ноги собаки.
«Хрюня бежала ко мне, вовсе не к нему. Я повернулся к хозяину алабая и спросил: «что, кто кого загрыз?» Тот выругался, не на меня, на своего пса, подошел к нему, схватил за ошейник и пинками погнал впереди себя…».
К моему огорчению, дядь Саш с долей печали и грусти вдруг закончил байку неожиданным: «через некоторое время Хрюня умерла. Ей что-то подкинули, она отравилась и долго мучилась, пока не скончалась…».
Возможно, это событие произошло чисто случайно, без всякой связи с вышеописанным эпизодом. Но что-то мне не верится в подобные совпадения. Скорее, «несчастный случай» походил на происки уязвленного самолюбия, не буду уж уточнять кого именно. Но что называется, не пойман – не вор, предполагать можно все, что угодно…
Очередное краткое отступление – «врезка», на этот раз затрагивающее аспект «из другой оперы», вроде бы не относящийся ни к главной линии всего повествования, ни к развитию сюжета текущей байки. Когда поставил кавычки в предыдущем абзаце, совершенно непредсказуемо для меня самого случилась известная многим авторам ситуация из разряда «начиная беседу, никогда не знаешь, на какую кривую тебя вынесет творческая фантазия, до каких «эк, куда тебя занесло» областей унесет зажившее собственной волей развитие байки.