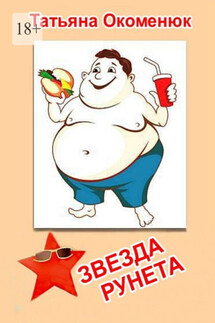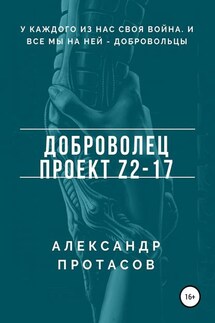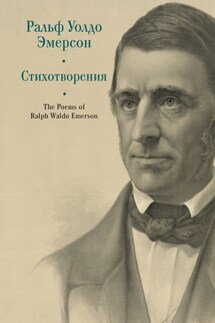Не/смотря ни на что. Махонька и Гном - страница 15
Со второго класса у парня начались специализированные занятия по пространственной ориентировке. Для незрячего человека это – самый важный и самый полезный предмет, ведь без умения самостоятельно передвигаться по городу остается безвылазно сидеть в четырех стенах, в ожидании, пока кто-нибудь из родственников выведет тебя на прогулку.
Преподавателем по ориентировке был молодой зрячий мужчина Владислав Кузьмин, разрешивший воспитанникам называть его просто Владом. От него всегда пахло ванильным шоколадом и хорошим одеколоном. А еще у Кузьмина был очень приятный голос, мягкий, бархатный, задушевный, который он никогда не повышал. Педагог сразу научил Ивана нескольким значимым вещам:
– У слепого человека самый главный орган – уши. Они заменяют ему глаза, дают чувство равновесия и направления. По звукоотражению незрячий «слышит» препятствия. Если заткнуть слуховые отверстия, он станет по-настоящему слепым. Чтобы четко зайти, например, в вестибюль метро, нужно прислушаться, куда идет масса людей, и пристроиться за ней, ориентируясь на окружающий гул. Поэтому на улице, и особенно на проезжей части, – никаких наушников с музыкой.
Тренируй свою память. Запоминай дорогу в нужные тебе места с точностью до шага, причем шаг должен быть определенного размера: ступишь чуть шире – потом заблудишься.
Ты должен не только хорошо владеть тростью, но и в совершенстве знать предстоящий маршрут. Когда он знаком, улица будет казаться тебе всего лишь шумным коридором.
Запоминай ориентиры с помощью запаха. Разные магазины пахнут по-разному. Даже легкий ветерок может подсказать, в каком пространстве ты находишься и куда тебе нужно идти.
Прислушивайся к звуку скользящей по тротуару трости. Благодаря этому, ты не врежешься в неправильно припаркованную машину и не попадешь в капкан поврежденного тротуара.
Занятия с инструктором Иван начал с хорошо знакомых ему маршрутов: дом – интернат, дом – автобусная остановка, интернат – музыкальная школа, интернат – гастроном, дом – детская поликлиника. После цикла занятий, мальчик уже отлично ориентировался на местности, передвигаясь без посторонней помощи. В интернат из дому и из музыкальной школы домой он уже шел самостоятельно. Ольга Петровна и Марина Василькова просто страховали его, идя сзади. Без синяков и ссадин, конечно, не обходилось. Ваня умудрялся спотыкаться о бордюры, порожки и ступеньки, нередко налетал на дверные косяки и углы мебели, но к этому он относился с юмором, считая свою неловкость «издержками» учебного процесса. Главным для него было то, что он справился, наконец, с проблемой «зеркального отражения». Какое-то время у парня не получалось «перевернуть» дорогу в обратную сторону. То есть, когда идешь туда – ориентир находится с правой стороны, когда же возвращаешься обратно, он должен быть слева. Спустя два месяца парнишка научился «переворачивать в голове картинку», но Ольга Петровна все равно не отпускала его одного ни в магазин, ни в музыкальную школу. «Береженого бог бережет», – отбрыкивалась она от настойчивых просьб сына не идти за ним по пятам, особенно в «музыкалку», мотивируя свое присутствие необходимостью пообщаться с педагогами.
Последние Ваню очень хвалили – и хоровик, и преподаватель игры на фортепиано, и особенно «вокалист». Все они отмечали его необычную музыкальную одаренность и невероятную настойчивость в достижении цели. А вот отношения с соседями у Котельниковых оставляли желать лучшего, несмотря на музицирование Ивана в интернате, ведь вечером и утром перед школой ему нужно было распеваться и прослушивать классическую музыку по теме занятий. До них в этой квартире жила старушка с котом, и все жильцы привыкли к мертвой тишине на шестом этаже, а тут – н