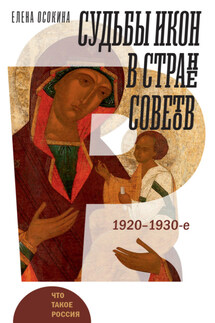Небесная голубизна ангельских одежд - страница 69
В начале декабря 1931 года «Антиквариат» обратился в Русский музей с просьбой отобрать «некоторое количество вещей из запасов», «ибо наметилась возможность продвинуть на внешнем рынке кое-что из предметов русской живописи и прикладного искусства». Прошел месяц. Руководство музея саботировало запрос, о чем свидетельствуют письменные угрозы «Антиквариата» донести правительству о срыве партийного и правительственного задания по форсированию художественного экспорта[440]. В январе 1932 года в Русский музей на заключение был послан список из 22 произведений русских художников – Шишкина, Айвазовского, Куинджи, Левитана, Маковского и др.[441] «Антиквариат» настаивал на выдаче всех этих произведений, ввиду «скромности» его требований, но директор Русского музея утвердил выдачу только девяти работ.
Ударные валютные задания первого полугодия 1932 года надо было выполнять, и руководство «Антиквариата» пожаловалось правительству. В начале февраля 1932 года в Русский музей в Ленинграде и Третьяковскую галерею в Москве пришло письмо из Наркомпроса за подписью зам. зав. сектором науки Вольтера. В нем говорилось следующее:
В связи с чрезвычайно напряженным положением на международном антикварном рынке по сбыту произведений западного искусства музейного значения, Антиквариат по согласованию с Наркомпросом обязан завоевать рынки путем внедрения на его аукционы и отдельные продажи в первые руки произведений русских художников.
Наркомпрос требовал, чтобы директора Русского музея и Третьяковской галереи наметили «высоко качественные, но второстепенные в отношении экспозиции произведения русских художников круга до-передвижников, передвижников и формалистических исканий конца 19 и 20 вв.» и срочно представили списки в сектор науки на рассмотрение и утверждение. Кроме того, Наркомпрос рекомендовал заранее подумать и о том, с какими из уникальных произведений музеи «в случае крайней необходимости могли бы расстаться с наименьшим ущербом»[442]. Списки «уников», или «уникатов», требовалось представить в секретном порядке немедленно. Уже к концу февраля Русский музей выделил около 70 картин и акварели, но «Антиквариат», ссылаясь на «условия рынка», отказался их брать[443]. Возможно, эти произведения, с точки зрения торговых работников, были недостаточно высокого художественного значения. Не доверяя музейщикам, «Антиквариат» добивался допуска своих людей к осмотру собрания Русского музея, в чем и получил поддержку Наркомпроса[444].
В ноябре 1933 года в Русском музее работала бригада Наркомата внешней торговли. После того как представители «Антиквариата» осмотрели запасы Русского музея, заявки торговцев со списками на выдачу произведений русского искусства стали поступать одна за другой[445]. Сотрудники музея сопротивлялись и боролись за целостность своего собрания. Свидетельство тому – жалобы «Антиквариата» в Наркомпрос на саботаж в Русском музее[446]. Музею удалось отстоять некоторые произведения, но акты выдач и сводки свидетельствуют, что «Антиквариат» получил сотни полотен из Русского музея. Часть их была выдана в 1928 году – в начальный год массового экспорта, однако основные выдачи, после относительного затишья 1929–1931 годов, проходили в 1932–1934 годах.
Создается впечатление, что, основательно подорвав мировой рынок произведений западноевропейской живописи, советские торговцы теперь пытались поправить дело продажей работ русских художников. Цены, по которым произведения выдавались из музея, колебались от 200 до 500 руб. за картину, этюды шли по цене от 50 до 100 руб.