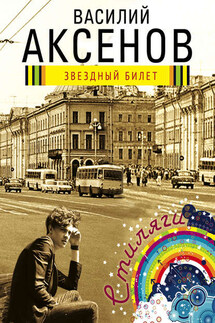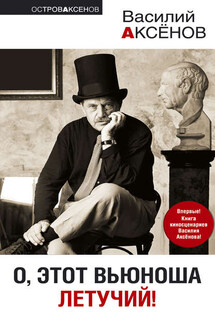Негатив положительного героя (сборник) - страница 12
Вместе с этим пальто мы стали углубляться в почти антисоветскую молодость. Оно помогло мне пережить исключение из Казанского мединститута. Может быть, именно оно подсказало мне укрыться в Москве. Им я и укрывался во время ночевок на московских вокзалах, среди могучей щусевской архитектуры. Через межлопаточное пространство уже начинали просвечивать державные люстры. Веселая тетя Наташа, прибывшая в Москву для «спасения ребенка», всплеснула руками: «Васька, да ты люмпен! Что я напишу в Магадан Жене?!»
Ни мать, ни тетка, ни сам вечно чихающий студент-люмпен не подозревали, что подходит его срок вместо американского Верблюдо примерить лагерный ватник. Только спустя много лет стало известно, что изгнание из института было прелюдией ареста. Малая родина склонна к предательству не менее, чем большая, но это, конечно, особая тема.
Переехав в Питер, я оказался под опекой тетки. При всем веселом нраве она была носительницей здравого смысла. Маме была отправлена депеша с описанием скандального рубища. Мать с гневом прислала ей деньги, чтобы купить мне новое, настоящее пальто. Засим мы отправились на Обводный канал во Фрунзенский универмаг. Там под тяжестью советской одежды гнулись металлические вешалки. Тетка с бесконечными ифлийскими хохмизмами, но неумолимо – «волею пославшей мя сестры!» – выбрала нечто стахановское и тут же повлекла племянника в фотоателье для выполнения подтверждающего акцию снимка. Даже без следа иронии на бледном, отретушированном лице позирую в виде положительного героя соцреализма.
Как ни странно, совсем не помню сейчас, как испарилось мое злокозненное Верблюдо с его протертой уже до нитяной структуры спиной, с поясом, на котором зубчики уже не знали, за что зацепиться, с вермишельными рукавами, оно, так ярко осветившее мою раннюю молодость и взбудоражившее двух сестер Гинзбург, разделенных пространством в двенадцать часовых зон. Может быть, и впрямь испарилось, сделав свое дело, сняв с юнца советский номерной знак, вдруг в пьяной питерской ночи малой шкуркой, обрывком закатной тучки поднялось, подобно «небесным верблюжатам» Елены Гуро, над крутыми склонами Исаакия и там, достигнув уже нематериальной ветхости, как раз и испарилось?
«Этой штуке место в ломбарде», – взвесив фрунзенское добро, сказал мне мой новый балтийский друг Михаил Карповиус. Этот узколицый молодой человек в резко сдвинутом набок литовском берете, помимо многих других открытий, открыл для меня существование ломбарда, то есть воплотил литературную ситуацию в жизнь.
Благо было уже тепло и мы щеголяли в китайских плащишках. Быстро в плащишках перемещались из одной клиники в другую, интересуясь не столько больными, сколько сокурсницами, и, в частности, высокой рыжей девушкой, Леной Горн, о которой «на потоке» говорили, что она «дает с ходу», и которая смотрела на нас всех с нескрываемым презрением.
Осенью я «построил» себе другое пальто, неплохую замену моему растворившемуся Верблюдо. К тому времени Америку в наших сердцах резко отодвинула Франция. Приехал стриженный ежом Ив Монтан. В пивных мы имитировали его шансоны. Вот, вообразите, заходишь в какое-нибудь прокисшее пролетарское заведение, а там компания поддатых молодцов хором исполняет: «Я так хочу хотя бы раз Кольцо Больших Бульваров обойти в вечерний час!» Вот вам удар по вашим стереотипам, господа западные филологи и романисты. В заведении, именуемом «Пиво завода имени Стеньки Разина», вы ждете услышать «Из-за острова на стрежень», узреть что-нибудь надрывное, подноготное, а вместо этого перед вами мельтешит толпа петербургских буршей, голосящая: «C’est a loin, loin; Oh, les pays lointains…»