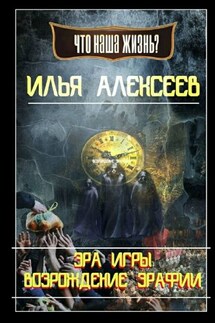Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - страница 28
В 1899 году появилась первая подлинно виталистическая или динамико-телеологическая работа: Die Lokalisation morphogene-tischer Vorgänge, доказательство виталистических событий. Концепция «гармонически-эквипотенциальной системы» и доказательство ее механической неразрывности занимают центральное место. Я сам собрал богатый новый экспериментальный материал с 1895 года, когда я впервые, как молния, убедился в необходимости витализма; я получил дополнительный материал зимой I901/2 года и время от времени позже. Гармонически-эквипотенциальными системами я называю те совокупности клеток, которые возникают в эмбриологии или при восстановлении нарушенной организации (реституции), для организационной работы которых нет разницы, брать ли из них части или перемещать их по своему усмотрению. Именно здесь концепция «машины» оказывается несостоятельной. Кстати, все это изложено в очень тщательном концептуальном анализе и с использованием ряда терминов, которые впоследствии были натурализованы, таких как «проспективная потенция», «проспективный смысл» и др. значение» и т. д. До сих пор я не нашел причин отказываться от чего-либо существенного в своих объяснениях; совсем недавно (1918—19) я, как мне кажется, существенно углубил их в своих «Логических исследованиях развития I и II».
Статья о локализации была заключением и новым началом. Завершением в той мере, в какой, хотя и не совсем с 1899 года, но с 1902 года и далее биологическая экспериментальная работа перестала быть центром моей деятельности (последний эксперимент я провел в 1909 году: крупные единичные образования из двух яиц), началом в той мере, в какой передо мной внезапно встало почти пугающее количество новых проблем, сначала как в тумане. Это постепенно привело меня к чистой философии.
Первой задачей было перенести учение об «автономии жизненных процессов» из ограниченного морфогенетического поля на всю область биологии, то есть, строго говоря, рассмотреть, где можно найти (косвенные) «доказательства» механической неразрывности органической группы процессов, или, другими словами, где предположение о лежащей в основе «машине» может быть фундаментально наполнено. В этом смысле я прошел через всю физиологию; две работы: Die organischen Regulationen (1901) и Die «Seele» als elementarer Naturfaktor (1903), были плодом этих исследований. Во второй работе центральное место занимает анализ человеческого действия, рассматриваемого исключительно как природный феномен; здесь же я впервые выступаю против так называемого психофизического, в действительности всегда психомеханического параллелизма.
Но требовалось нечто большее, чем просто расширение основ теории автономии: необходимо было доказать, что эта теория возможна в рамках естественных наук. Поэтому необходимо было связать с ней наиболее фундаментальные аспекты всего естествознания, энергетику и механику; необходимо было рассмотреть старую декартовскую проблему тела-души в новой форме. Я уже изучал высшую математику и теоретическую физику в старших классах гимназии, а затем, после защиты докторской диссертации, в Цюрихе и поэтому был в состоянии понять хотя бы основы оригинальных работ по физике и химии, о которых идет речь. В книге «Naturbegriffe und Natururteile» (1904) я суммировал то, что имел сказать о взаимоотношениях между органической и неорганической материей. Эта книга содержит, в качестве основного пункта, подробную критику энергетики и, как наиболее существенный пункт, доказательство того, что так называемый «второй закон» состоит из двух логически совершенно разнородных частей; с другой стороны, она впервые содержит философские объяснения в более узком смысле, а именно некоторые эпистемологические основания и критические замечания о понятии причинности; наконец, конечно, в ней делается попытка решить основной вопрос о том, как энтелехия относится к материи и энергии. Но именно здесь все застряло на полпути; то, что предлагается, не ошибочно, но совершенно неполно; я продвинулся здесь только в 1908 году.