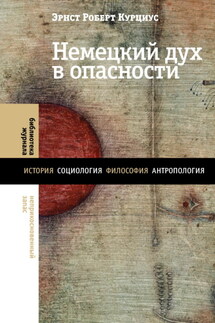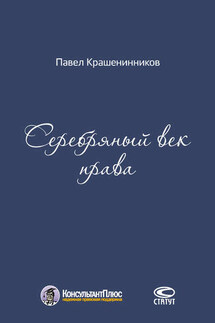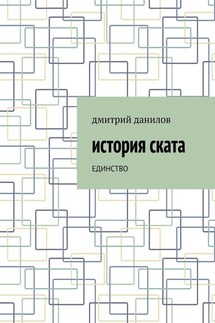Немецкий дух в опасности - страница 5
Весьма примечателен в отношении этой статьи 1922 года вопрос словоупотребления: во французском тексте Курциус ни разу не именует немецкий дух собственно духом, l’esprit; взамен он называет эту сверхисторическую и надличностную категорию «(немецкой) жизнью», «(немецкой) мыслью», единожды – «(немецкой) душой». Можно, соответственно, заключить, что само понятие о «духе» в необходимом здесь смысле – чисто немецкое и (по крайней мере, в представлении Курциуса) не должно переводиться напрямую во избежание терминологической путаницы41. Как бы то ни было, сами предложенные в тексте варианты – жизнь, мысль, душа – проливают свет на немецкое и курциусовское представление о духе. Определение этому понятию Курциус не дает, и ни на чью другую (философскую, социологическую, поэтическую) дефиницию он тоже не ссылается42: это, конечно, осознанное решение, напрямую связанное с отрицанием у Курциуса «духовных формул» (становящихся безмерным упрощением и пустыми ярлыками) и с его идеей о трансцендентности немецкого духа. Deutscher Geist – возвращаясь к «Психологии немецкого духа» 1922 года – постичь можно только и исключительно через труды besten Geister, лучших умов Германии43.
Наиболее представительным собранием, отражающим плоды этих трудов, Курциус, как мы уже знаем, считал, по крайней мере в 1920‑х годах, «Немецкую книгу для чтения», подготовленную Гуго фон Гофмансталем. Вот как Курциус характеризует гофмансталевское собрание:
…это сокровищница нашей традиции – той самой, с которой мы чаще всего обходимся до крайности небрежно; ни один народ на свете так со своей традицией не обращается. Эти страницы – трогательное и смиренное напоминание нам о том, сколько сердечного тепла и душевной высоты, сколько искренности и нравственной силы было у немцев в великие времена. Простота (в самом высоком смысле!), благочестие, душевное благородство: вот та атмосфера, в которой процвели и глубокая мысль, и мощь, и красота той эпохи, которая началась с пробуждения немецкой литературы у Лессинга и Клопштока и продолжалась до позднейших отголосков романтизма44…
Какие же именно фрагменты Гофмансталь посчитал частицами немецкого духа, таинственным образом сочетающимися в глубинах «темного зеркала»? Перечислим лишь немногие. Это, например, автобиографический отрывок из «Гамбургской драматургии» Лессинга; размышления Рабенера о новом – возможном – словаре немецкого языка; «Монолог о дружбе» Шлейермахера; отрывки из писем: Цельтера, Гёльдерлина, Бюхнера; предисловия – из книги Якоба Гримма «История немецкого языка», из «Детских и домашних сказок»; исторические портреты: Моммзен – о Сулле, Ранке – о Ришелье, Гайдн – о Моцарте; портретные описания в прямом смысле: Георг Лихтенберг – об актере Дэвиде Гаррике, Брентано – о монахине Анне Катарине Эммерих; речи: Адам Мюллер – об отношении немцев к языку, Грильпарцер – о Бетховене; географические, естественно-научные, археологические фрагменты: Карл Риттер – о путешествии в Палестину, Виктор Ген – о финиковых пальмах, Бахофен – об этрусских гробницах; философские рассуждения: Кант – о приложении разума, Ницше – о Гераклите… Всего: более ста многообразных текстов. При всей своей разнородности (стоит добавить, что Гофмансталь располагает фрагменты достаточно прихотливо, без тематической или исторической систематизации) книга, несомненно, производит парадоксально целостное впечатление, что, по мысли Курциуса, и отражает ее глубокое проникновение в праматерию немецкого духа, вечно стремящегося ко всепостижению и оттого разнонаправленного