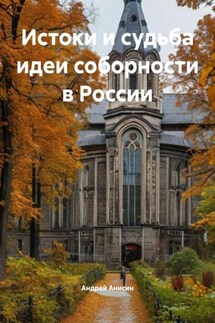Немецкий идеализм: от Канта до Гегеля - страница 36
4.4. Трансцендентальная дедукция: ее назначение и итоги
Считая главной задачей аналитики понятий не только продуцирование категорий, обосновывающее их неэмпирическое происхождение, но и применение категорий к предметам опыта, Кант наряду с метафизической осуществляет и так называемую трансцендентальную дедукцию. Во многом под влиянием Юма, так и не сумевшего на примере категории причинности доказать априорный характер категорий, Кант отыскал, как он полагал, такое строгое доказательство через открытие тождества категорий с логическими функциями рассудка в суждениях. Однако отсюда возник целый ряд вопросов: как возможны такие относящиеся к предмету представления без воздействия предмета? Почему предметы чувств должны необходимо соответствовать понятиям рассудка, имеющим нечувственное происхождение? Почему все события в мире соответствуют правилам рассудка, а не вытекают из вещей и их чувственных восприятий? И вообще, почему без правил рассудка ничего нельзя познать в опыте? Так, на примере категорий причины и следствия Кант показывает, что до опыта мы ничего не знаем о существовании такой связи между вещами и, хотя в опыте такая связь нами обнаруживается, она не может быть выведена из самого этого опыта и коренится исключительно в рассудке, т. е. уже до всякого опыта мы должны располагать категориями причины и следствия.
Отвечая на все эти вопросы, философ вынужден искать доказательства правомерности и необходимости применения категорий в опыте; будучи неэмпирического происхождения, они и доказывают априорный характер нашего знания (его всеобщность и необходимость), а это и составляет существо трансцендентальной дедукции, которая становится своего рода нервом всей критической философии. Кант так и напишет, что она нужна для того, чтобы «не действовать слепо, чтобы довести критическое исследование до завершения». Итак, главной ее целью является попытка объяснить тот способ, каким понятия (категории) априори относятся к предметам, причем само слово «дедукция» обозначает у Канта не просто «выведение», но и «оправдание» (как у юристов) возможности априорного познания и правомерности применения категорий к опыту.
Настаивая на невозможности эмпирической дедукции категорий, так как последние не могут быть получены на основе опыта и не зависят от него, философ сравнивает их с пространством и временем, которые не нуждались в такой дедукции. Будучи априорными формами чувственности, они напрямую апеллируют к наглядным представлениям, т. е. к предметам опыта. В случае же с чистыми понятиями рассудка такого рода дедукция необходима потому, что синтез осуществляется здесь без предметов чувственности. Более того, сами эти предметы могут являться нам и без их отношения к понятиям, так как это не те условия, под которые предметы даются нам в наглядном представлении.
Спрашивается: каким же образом субъективные условия мышления имеют объективное значение и являются условиями возможности всякого познаваемого предмета? Если необходимость сообразовывать предметы с формальными условиями чувственности, по Канту, ясна, то с категориями дело обстоит не так просто. Наглядные представления не нуждаются в категориях, а опыт не доказывает их необходимости. И все же Кант полагает, что существуют два условия познания предмета: наглядные представления и понятия. Только при условии пространства предметы могут являться; но не предваряются ли они также априорными понятиями, как условиями, благодаря которым предмет (не представленный наглядно) мыслится как предмет и все эмпирическое знание о нем должно сообразовываться с понятиями, без которых нет объекта опыта? Понятия о предметах, считает Кант, вообще должны лежать в основе всякого опыта. Объективное значение категорий и заключается в том, что опыт возможен только посредством их, так как они необходимы и априори относятся к предметам опыта. Трансцендентальная дедукция, таким образом, и показывает, что априорные понятия являются условиями возможности всякого опыта.