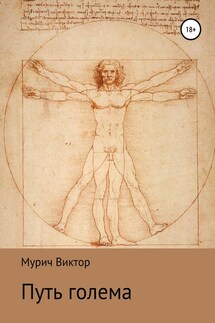Неокантианство. Пятый том. Сборник эссе, статьей, текстов книг - страница 63
В эту пустоту, в эту бездну всепожирающего, явленного небытия знания человек неизбежно погружается, когда хочет превратить единственное внутреннее знание, выходящее из непостижимых глубин его разума, в заучивание и действительно хочет подняться к сверхчувственному, но, конечно, только с помощью органов чувств, абсолютно только на уровне понятий рассудка, которое в конечном счете основано только на чувственном восприятии.
Сущее рассудка, везде только рефлектирующее, везде также только относительное сущее и говорит не более чем о простом бытии, равном другому в понятии; но не о сущем или бытии. Это, реальное бытие, бытие par excellence, раскрывается только в чувстве; в нем раскрывается определенный дух.
В какой форме в чувстве – объективной и чистой – дух, определенный в себе, присутствует в человеке, и через него он становится способным распознать то, что есть только он сам: истинное непосредственно только в истинном, прекрасное непосредственно только в прекрасном, добро непосредственно только в добре, и таким образом иметь сознание знания, которое не есть просто зависимое знание среди доказательств, но независимое знание над всеми доказательствами, истинно высшее знание; в какой форме прежде всего то знание свободы и провидения, которое наиболее глубоко присуще нам, которое, как силы, превосходящие природу, властвует в нас и над нами, – это мы признаем себя неспособными объяснить. Мы только выставляем на свет факты и затем, основываясь на них, обосновываем наше учение с научной строгостью.
В какой степени это действительно было достигнуто в ранних работах автора, можно прочитать в самих этих работах. Трактат, который заново появляется в настоящем втором томе Полного собрания сочинений: «О неотделимости понятия провидения и свободы от понятия разума», представляет в сжатом виде систему его убеждений или обоснование его веры перед философствующим интеллектом, которую он, отрицая другие учения, предполагает сам и которой он не придерживается, возможно, наиболее понятным образом, по этой причине на него здесь дается особая ссылка.
Торопясь с заключением, я лишь в кратких абзацах добавлю к уже сказанному кое-что из того, что хотел бы добавить, и предоставлю читателю самому довести до конца и связать воедино. В конце концов, афористическая лекция и то, что мой бессмертный друг Гаманн называл «стилем кузнечика», часто попадает в цель более удачно, чем самая искусственно составленная речь.
Как реальность, открывающаяся внешним чувствам, не нуждается в гаранте, поскольку она сама является сильнейшим представителем своей истины; так и реальность, открывающаяся тому глубокому внутреннему чувству, которое мы называем разумом, не нуждается в гаранте: она также сама и только сама является сильнейшим свидетелем своей истины. Человек обязательно верит своим чувствам, обязательно верит своему разуму, и в этой вере нет уверенности выше уверенности.
Поскольку кто-то попытался научно доказать истинность наших представлений о материальном мире, существующем вне этих представлений и независимо от них, предмет, ради которого его хотели постичь, исчез у манифестантов, они остались с одной лишь субъективностью, ощущением: они нашли идеализм.
Поскольку кто-то хотел научно доказать истинность наших представлений о нематериальном мире, существующем вне этих представлений, о субстанциональности человеческого духа и о свободном создателе этой вселенной, отличном от самой вселенной, о Провидении, которое сознательно, которое личностно, которое единственно истинно, предмет также исчез у манифестантов; они остались с простыми логическими фантазмами: они нашли – нигилизм.