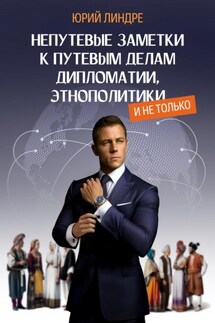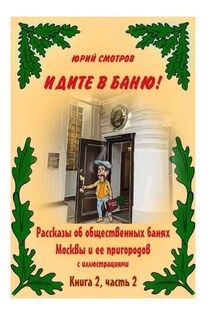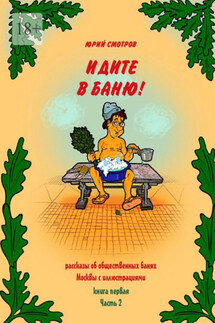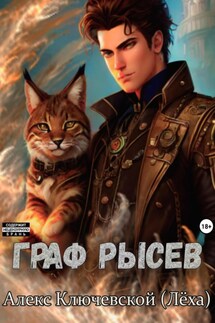Непутевые заметки к путевым делам дипломатии, этнополитики, и не только. Часть I - страница 14
Далее всё было более-менее понятно и логично, с точки зрения классического устройства дел в средневековой Европе. Принудительная христианизация по жёстким католическим лекалам с кострами и процессами над ведьмами, ставшей в некотором смысле первичной инъекцией западноевропейских ценностей, спорадические восстания, смена владельцев территории Эстонии в ходе многочисленных войн, сделок и обменов. Неизменными оставались лишь уклад жизни обитателей болот, лесов и каменистой почвы, да немцы-феодалы, по велению с неба эксплуатировавшие в хвост и в гриву местное население.
В общем, путь к реальной независимости был долгим и тернистым. А пришла эта самая независимость (как это часто бывает) ровно тогда, когда её не ждали и к ней не готовились.
Первая мировая война оставила глубокий шрам на теле народов Европы. Делёж «вкусных» на ресурсы колоний, вылившийся в кровопролитный конфликт глобального масштаба, закончился распадом всех существовавших на тот момент четырёх империй. Шансом «сделать ноги» от власти бывших метрополий воспользовались многие угнетаемые народы. Как и в схожих по своей природе случаях эстонская независимость стала следствием внутриполитической катастрофы стремительно деградировавшей Российской империи: когда ни новая, ни старая власть венедов (эст. venelased – русские) так и не смогли установить реальный контроль над своими теперь уже бывшими зависимыми северо-западными регионами, включая Эстонию.
Декларация независимости Эстонии (Манифест всем народам Эстонии)
от 24 февраля 1918 г.
На этом фоне предпринятая эстонцами смелая попытка к самостоятельной жизни оказалась не то, чтобы слишком успешной. И может быть, конечно, их хрупкое государство имело какие-то шансы в перспективе стать жизнеспособным, но ко Второй мировой войне все ведущие державы готовились тщательно и основательно, прибирая к рукам осколки бывших империй, укрепляя тем самым свой оборонительный и наступательный потенциал. В какой-то степени попала «под раздачу» и страна нашего внимания. Её стаж независимости ограничился 20-ю годами. Не будем вдаваться в детали того периода. Кому интересно, всегда можно ознакомиться с трудами светочей истории во главе с уже упоминавшимся Мартом Лааром, или почитать нормальную историческую литературу.
Стоит отметить лишь то, что несмотря на все достижения науки и техники 20-го века, а также развитие международной и межнациональной коммуникации, эстонцы по-прежнему в массе своей оставались индифферентными к происходящим за пределами их микромира событиям, замкнутыми «себе на уме» хуторянами-индивидуалистами. Умение и, самое главное, желание критически осмысливать глобальные процессы были присуще, пожалуй, лишь небольшой части элиты, получившей образование в Петербурге и говорившей в быту, как правило, на русском языке.
Ну, а потом была новая война. Эстонцы были замечены в сражениях по обе стороны баррикад, хотя значительная часть предпочла всё же пересидеть активные боевые действия на своих хуторах. Многовековая привычка созерцать мир из-за забора не изменила маленькому народу и на этот раз. Мысли о независимости были зарыты вместе с пулемётом в близлежащем лесу или утоплены в многочисленных болотах.
В послевоенное время на смену выгнанным в Германию потомкам средневековых феодалов пришла «семья братских народов». И не то чтобы просто пришла – встал вопрос о пересмотре многовековой формации существования коренного населения. А то как же? Например, счастье иметь электричество в довоенное время эстонцы испытывали лишь в нескольких крупных городах, а бытовые условия никак не монтировались даже со скромными стандартами Советского Союза. Не было ни транспортных узлов, ни сколь-нибудь серьёзного промышленного производства (глиняные горшки, деревянная посуда и виртуозная чистка картошки по правилам немецких феодалов в виде маленьких шариков не в счёт). Одним словом, не было ничего, что создавало бы базу для трудящегося в целях реализации своего потенциала в интересах общества. В полный рост встал вопрос о трансформации привычного для эстов уклада жизни. Так, проблема неэффективного хуторского производства сельхозпродукции была оперативно решена ранее апробированным на территории СССР способом – объединением в крупные хозяйства, т.е. коллективизацией.