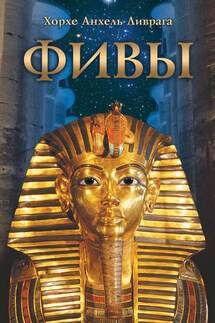Несостоятельность (банкротство). Том 1 - страница 33
Попытка дифференцирования понятий несостоятельности и банкротства была предпринята и в Уставе о банкротах 1800 г.
В Уставе о банкротах 1800 г. указывалось, что «для отличения беспорочного банкрота от прочих называть отныне пришедшего в несостояние упадшим, которое звание означается в нем несчастного, а не бесчестного человека; неосторожного и злостного называть банкротом»[156]. Очевидно, уже тогда начало формироваться мнение о том, что банкрот – нечестный человек, имевший умысел на причинение вреда кредиторам. Уставом о банкротах 1800 г. вводились три вида банкротства: от несчастья, от небрежности и пороков, от подлога. В отношении каждого вида несостоятельности принимались различные меры воздействия. Банкрот не считался «бесчестным», если не было доказано его злостное намерение. Должник, ставший банкротом «от несчастья», освобождался от ответственности по всем своим долгам.
По Уставу судопроизводства торгового от 20 ноября 1864 г. также различалась несостоятельность подложная, несчастная и неосторожная.
Статьей 482 Устава предусматривалось, что «для признания подложной несостоятельности необходимо установить, что формальное открытие несостоятельности вызвано не действительным упадком дел, а сокрытием имущества, подлогом в книгах несостоятельного или документах, свидетельствующих о положении дел, фиктивное переукрепление имущества, безнадежное обременение конкурсной массы обязательствами и пр.». Для признания несостоятельности несчастной (ст. 480 Устава судопроизводства торгового) необходимо установить, что дело приведено к неоплатности не по вине должника, а стечением непредвиденных бедственных обстоятельств, каковы, например, наводнение, пожар, вторжение неприятеля и вообще всякий нечаянный упадок (ст. 481).
В советский период развития права также предпринимались попытки дифференцировать рассматриваемые понятия.
В частности, по мнению А.Ф. Клейнман, «сама по себе несостоятельность не рассматривается как банкротство, т. е. социально опасное действие, влекущее применение мер социальной защиты, но если в процессе ликвидации выявятся такие моменты в деятельности несостоятельного, которые свидетельствуют о злоупотреблении доверием или обмане со стороны должника с целью получения имущественных выгод, то суд должен будет возбудить против виновного уголовное преследование по ст. 169 УК РСФСР»[157]. Аналогичной точки зрения придерживались и А.Г. Лордкипанидзе[158], а также Е.А. Васильев[159]. В настоящее время данную позицию отстаивают такие ученые-правоведы, как В.В. Степанов[160], М.В. Талан[161], В.В. Зайцева[162], М.В. Телюкина[163], В.Н. Ткачев[164], Л. Щенникова[165], И.М. Середа, Е.А. Бирюкова[166], В.С. Комаров[167], А.И. Гончаров[168]. Все они различают уголовно-правовую (банкротство) и гражданско-правовую (несостоятельность) специфику отношений, возникающих в связи с неплатежеспособностью должника.
Третья группа ученых дифференцирует вышеуказанные понятия по иным основаниям. С их точки зрения, не является целесообразным относить понятие «банкротство» к уголовному аспекту правоотношений несостоятельности.
С точки зрения некоторых авторов, «вопрос о необходимости понимания банкротства как исключительно уголовно наказуемого деяния не является главным для развития конкурсного права»[169], а ряд авторов более категоричен. Так, по мнению Б.С. Бруско, «