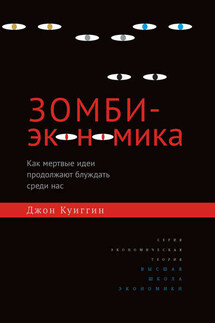Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 6
Кризис разразился в результате сочетания жестких и мягких факторов. К жестким факторам можно отнести законодательные инициативы, разработанные для того, чтобы освободить рынки и предположительно улучшить показатели их деятельности. Хотя эти законы были необходимым условием наступления кризиса, ни один из них не был достаточным условием его наступления. В реальности кризис стал возможным благодаря волне неолиберальной идеологии, вдохновленной Милтоном Фридменом и внедренной в жизнь политиками, следовавшими примеру Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.
Ситуация с глобальным кризисом указывает на необходимость разделять законный собственный интерес, без которого рыночная экономика невозможна, и повальную человеческую жадность, которая является серьезнейшей угрозой существования рынков. Технически можно сказать, что причиной разразившегося кризиса стали такие действия, как отмена в 1999 г. закона Гласа – Стигалла 1933 г. Однако фундаментальной причиной кризиса было постоянное размывание норм самоограничения, которое шло рука об руку с развитием общественной культуры воинствующего индивидуализма. Здесь перед нами встает вопрос: как общественные науки должны моделировать homo economicus, и как это влияет на разработку экономической и прочей политики? В дальнейшем мы подробно обсудим эти темы.
Четвертым, и последним, примером выступает повторение финансового кризиса в апреле 2010 г., когда внезапно до европейских лидеров дошло, насколько близко Греция подошла к государственному банкротству. Греческий кризис заставил нас обратить внимание на высокомерие европейцев, отразившееся в Маастрихтском соглашении, и усвоить две вещи. Во-первых, что критики были правы, когда указывали на несовместимость общей монетарной политики и бюджетных политик в каждой стране. Во-вторых, что мы живем в мире, где политика и корыстные интересы всегда оказываются сильнее попыток соблюдать формальные правила, которые почему-либо им мешают.
В теории решение греческой проблемы действительно было найдено. Пакт стабильности и роста 1997 г. был подписан как раз для того, чтобы ни один член ЕС не мог выйти за обозначенный предел государственного долга и бюджетного дефицита относительно объема валового внутреннего продукта (ВВП). Если бы все правительства выполняли свои обязательства по договору, кризиса могло бы и не случиться. Однако проблема в том, что правительства преследуют прежде всего свои собственные интересы, и, если эти правительства представляют крупные, сильные страны, их нарушения остаются безнаказанными. Учитывая, что до наступления кризиса и Германии, и Франции было позволено откровенно и безнаказанно нарушить Пакт стабильности, кажется вполне справедливым, что, когда Греции потребовалась помощь, именно Франции и Германии пришлось заплатить больше всех. Вся эта ситуация отражает серьезную морально-этическую угрозу: правительства испытывают искушение нарушать правила и фальсифицировать финансовую отчетность, а кредиторы испытывают искушение умышленно запутывать вопрос в надежде, что в конце концов, когда понадобится, помощь будет получена за счет налогоплательщиков.
Греческий кризис случился вскоре после глобального финансового кризиса, в момент, когда экономика только-только начала приходить в себя, и навлек новые страдания на ни в чем не повинное население. Вспоминая вспышки общественного гнева по поводу готовности правительств во время глобального кризиса оказывать финансовую помощь банкирам, но не населению, интересно отметить, что реструктуризация долга (которую банкиры столь щедро предлагали той же Греции, пока не разразилась беда) даже не рассматривалась как вариант решения проблемы. Приоритетом оставалась защита тех, кто был виноват в произошедшем.