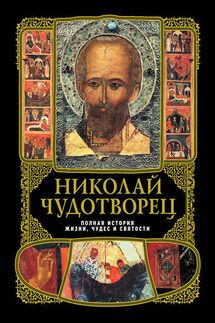Николай Чудотворец: Полная история жизни, чудес и святости - страница 12
Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью Ариева учения, равноапостольный император, по совету Александра, епископа Александрийского, разослал окружные послания ко всем епископам своей всемирной епархии, приглашая их на Первый Вселенский собор. Этот собор состоялся в 325 году по Рождеству Христову в Никее, главном городе Вифинии. Здесь, под председательством самого императора, собрались 318 епископов, между которыми первые места занимали Осия Кордубский, Евстафий Антиохийский и Макарий Иерусалимский. На этом соборе, продолжавшемся около двух месяцев, введен во всеобщее церковное употребление Символ веры, впоследствии дополненный и законченный на Втором Вселенском соборе, бывшем в Константинополе в 381 году по P. X. Подвергнут был осуждению Мелетий, который присвоил себе права епископа, будучи сам нарушителем церковных правил. Наконец, на этом же соборе отвергнуто и торжественно предано анафеме учение Ария и его последователей. В опровержении богопротивного Ариева учения наиболее подвизались святой Афанасий Александрийский, бывший тогда еще диаконом и за ревностное противоборство еретикам страдавший от них целую жизнь свою, и Святитель Николай. Святитель Николай, по словам высокопреосвященного Иннокентия, «несмотря на все злоухищрения еретиков, пребыл тверд, как та вера, которую он исповедовал. Прочие святители защищали православие помощью своего просвещения; Николай защищал веру самой верой тем, что все христиане, начиная от апостолов, постоянно веровали в Божество Иисуса Христа. Святость его жизни, всем известная, чистота намерений, признаваемая самими врагами, дар чудес, свидетельствовавший о непосредственном общении с Духом Божиим, сделали то, что Святитель Николай был украшением Никейского собора и заслужил, чтобы Церковь нарекла его правилом веры». Сохранилось предание (по Димитрию Ростовскому, об этом передает Иоанн, монах Студийский), что в одно из соборных заседаний Святитель Николай, не стерпев богохульства Ария, в присутствии всех ударил этого еретика по щеке. Отцы собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святого Николая преимущества его святительского сана – омофора – и самого заключили в одну башню. Но вскоре, убежденные в правоте такого поступка великого Угодника Божия видением, в котором перед очами некоторых из них Господь наш Иисус Христос подал ему Евангелие, а Пречистая Богородица возложила на рамена его омофор, они освободили его из заключения, возвратили ему прежний сан и почтили его, как великого Угодника Божия.
Местное предание Никейской церкви «даже до сего дня» не только сохраняет верно память о св. Николае, но и резко выделяет его из лика 318 отцов, которых всех считает своими покровителями. Известный путешественник по святым местам А. И. Муравьев при описании достопримечательностей Никеи в следующих словах передает о вышеприведенном предании, сохраняемом, по его словам, даже «самими турками, имеющими глубокое уважение к Святителю».
Явление Господа и Богоматери Святителю Николаю
«Было уже заполночь, – пишет он, – когда я выехал из Никеи через третьи великолепные врата, носящие название «Цареградских», потому что ими въезжали императоры из своей столицы; еще есть на них триумфальная надпись, над коею теперь посмеялись люди и время: «Здесь конечный трофей над полчищем бесстыдных сарацин, здесь христолюбивые императоры наши, Лев и Константин, обновили город, возобновив сию башню ценою кентария золота и семилетних трудов». Но другое священное предание сохранилось о сих вратах; сами турки его повторяют. Сторож, присланный мне для почести от аяна или градоначальника, показал нам в одной из громадных бойниц, с правой стороны торжественных ворот, так называемую темницу святого Николая Чудотворца; здесь, по местному преданию, он был заключен за то, что поразил на соборе Ария, защищая догматы веры, и содержался в узах, доколе не был оправдан свыше по небесному суду, который ознаменовался явлением Евангелия и омофора, как это пишется на его иконах. Глубокое уважение к Святителю, можно по истине сказать – вселенскому, обнаруживается даже и в мусульманах: как объяснить это счастливое влияние, которое сей Угодник Божий преимущественно пред всеми имеет на все племена и языки?»