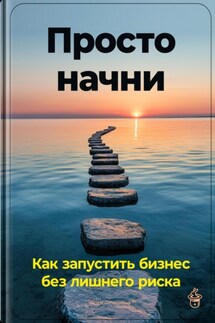Николай Михайлович Пржевальский. Путешествие длиною в жизнь - страница 62
Три года текли, и я был как-то спокоен, но когда теперь настают те месяцы, в которые должна решиться моя судьба, когда это невыразимое блаженство приближается ко мне, я начинаю пугаться и не верить, чтобы это действительно исполнилось.
В настоящую минуту я как человек перед прекрасным миражом – он видит зыблющие волны воды и мысленно упивается их влагой, он устремляется к ним, не зная, это видение, вода ли это, или мираж, и когда он после действительно найдет воду, то все еще будет опасаться, чтобы та вода не была миражом.
Вообще трудно и очень трудно передать все чувства, которые теперь наполняют мою душу. Приезжайте скорее, и Вы тогда увидите сами, что это не сказки, а сущая правда. Все остальное я передам, когда увидимся»[203].
По словам Фатеева, «медаль, данная Пыльцову, сильно Ягунова подзадоривает. И ему во что бы то ни стало полезностью своих трудов в экспедиции хочется его превзойти. Сегодня он даже порывался срисовать с натуры нанятого им мальчика-итальянца, но в конце, кажется, приходит к заключению, что надо еще научиться» (24 ноября 1874 г.)[204].
Хочется процитировать строки из письма Ягунова Пржевальскому:
«Мысль о втором путешествии у меня не выходит из головы ни на одну минуту. Я мечтаю о нем и день, и ночь, как какой-нибудь араб о рае павшим воинам, из… Корана. Все мои рассуждения стремятся к тому, чтобы быть тебе по возможности лучшим помощником. Я не могу помогать тебе в ученых исследованиях какой-либо отдельной отрасли знания, но мое стремление быть помощником во всех практических занятиях»[205].
8 июня 1875 г., купаясь в Висле, Николай Ягунов утонул. На следующий день со станции Беляево на станцию Соколинскую «в Варшавское юнкерское училище для подполковника Пржевальского» пришла телеграмма от Акимова: «Душевно скорблю о гибели талантливого юноши Ягунова и потере беззаветно преданного Вам друга и надежного товарища в экспедиции. Полковник Акимов».
«Потеря его для меня слишком тяжела и неминуемо отразится на самой экспедиции», – говорил Николай Михайлович. Был ли в это время он в Варшаве и хоронил ли Николая, неизвестно, но из писем матери Ягунова к Пржевальскому[206] мы узнаем, что он дал 50 рублей на похороны. «Да, не один раз вспоминаю я про потерю Ягунова. Если ему будут ставить памятник, то не откажите внести от меня 25 рублей. Быть может, на эту сумму можно прямо купить дуб и посадить на могиле»[207].
«Постановка дерева или памятника… отложена до весны, – писал Фатеев Пржевальскому, – вещи Николая проданы почти за 300 р.; по уплате долгов матери будут высланы около 100 р., но не сейчас, так как офицерство раскупило вещи в счет будущих благ» (23 ноября 1875 г.)[208].
Но памятника на могиле Николая Яковлевича Ягунова не было и летом 1877 г.: сменился командир полка, «а с новым командиром и толковать по этому вопросу нечего». Не было памятника и в 1878 г., так как «замотавшийся полк вместе с командиром не только не поставили памятника, но в чем-то надули даже старуху Ягунову. Поэтому памятник надо поставить самим»[209], то есть на деньги Фатеева, 15 руб., и Пржевальского, 25 руб. (29 июня 1878 г.). Но этих денег, по мнению Фатеева, было явно мало.
На каком кладбище в Варшаве был похоронен харьковский дворянин, прапорщик Кексгольмского гренадерского императора Австрийского полка Н. Я. Ягунов[210], и был ли на его могиле памятник, неизвестно, но скорее всего, местом упокоения стало Вольское кладбище, единственное православное кладбище в Варшаве.