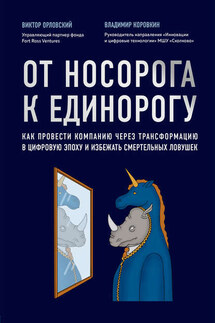НКО. Как устроены некоммерческие организации - страница 10
Отдельной проблемой была доступная среда – в тот момент государственная программа еще не демонстрировала сногсшибательных результатов повсеместного внедрения пандусов и поручней. К тому же мы понимали, что для такой сложной категории, как слепоглухие (часть из которых отмечены еще и нарушениями опорно-двигательного аппарата), нужны будут какие-то необычные дизайнерские решения. Поэтому изначально мы предполагали разработку неких типовых модельных пространств с участием архитекторов, дизайнеров и, конечно, самих людей с нарушением слуха и зрения. Опять же, чтобы потом была возможность эти спроектированные пространства внедрять и масштабировать по стране.
Так в дальнейшем появился конкурс «Шестое чувство», техническое задание к которому было отдельным шедевром, ибо описывало основные бытовые ситуации и потребности наших подопечных. И оказалось, что, помимо брайлевских меток, можно изготавливать столы с желобками, чтобы лишняя вода не проливалась на пол. А еще делать на этих столах специальные углубления, чтобы было понятно, куда поставить тарелку или где она стоит в данный момент. А углы столов можно закруглять, чтобы об них было не так больно биться. И так далее. Уже потом, спустя несколько лет, коллеги из лаборатории «Сенсор-тех» стали создавать паспорта типовых пространств (жилой комнаты, ресепшена офиса или отеля и т. д.), учитывающие различные элементы доступной среды для любой нозологии.
Но, возвращаясь к горизонтам, надо отметить, что мы, как люди горячие и мыслящие глобально, хотели сразу заглянуть и чуть дальше – за пределы 2020-го. Поэтому на полях нашей первой международной конференции в Москве в 2015 году не утерпели и провели форсайт вместе с командой из АСИ в их «Точке кипения» (тогда еще скромной, на Тверской-Ямской). Поскольку собрались у нас эксперты из разных регионов и даже стран, включая и самих слепоглухих людей, грех было не попробовать сформулировать желаемое будущее по состоянию год этак на 2035-й.
В итоге мы пришли к выводу, что стремиться следует к полной ликвидации слепоглухих как класса. Но не методами Пола Пота или Иосифа Виссарионовича, а через развитие технологий и методик заботы и реабилитации. Оценив нынешние темпы научно-технического прогресса, все сошлись во мнении, что к этому сроку будут возможности для компенсации либо одного нарушения (зрения или слуха), либо обоих.
Прежде всего речь идет, разумеется, об имплантах. Те же кохлеарные существуют уже не одно десятилетие. Сегодня они заметно упали в цене, есть несколько компаний – держателей технологии. Мы помогали группе «Исток-Аудио» открыть в России собственную линию по производству процессоров для кохлеарной имплантации (КИ), таким образом, локализовав эти ноу-хау и в нашей стране, она стала шестой в мире. Сами по себе операции несложные и не требуют немыслимой квалификации хирурга.
Даже методики реабилитации после КИ достаточно глубоко проработаны, им надо просто следовать (не увлекаясь чисто медицинской реабилитацией, как любят в России). Да, довольно непросто обучить глухого ребенка распознавать звуки и соотносить их с реальностью. Это мы знаем, что мяуканье ассоциируется с кошкой, а скрип – с дверью. Это мы запоминаем слова за вдвое меньшее количество повторов. Это у нас есть причинно-следственная связь между звуком приближающегося автомобиля и его появлением на наших глазах (у глухих детей он, по сути дела, возникает из ниоткуда и исчезает в никуда). Но мозг пластичен, и дети с КИ при хорошем курсе реабилитации (например, в центре «Тоша» в Подмосковье) прекрасно разговаривают, даже замечательно поют. Есть в Петербурге ассоциация «Я слышу мир» – у них множество документальных фильмов на эту тему, а каждый год проводится большой фестиваль-концерт, демонстрирующий таланты детей с КИ.