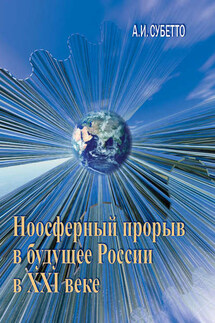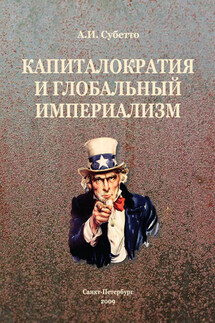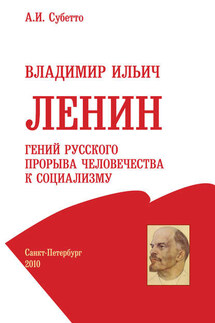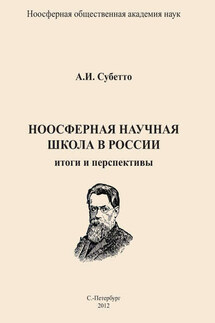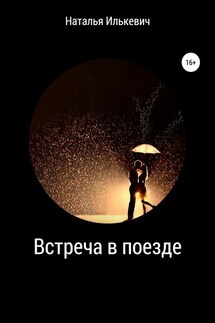Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке - страница 84
Но впереди была битва за торжество идеи отрицательной аэроионификации. У нее оказалось много врагов.
«Систематическое «осквернение» моих, по сути дела основных работ, открывших путь для дальнейших исследований и установивших впервые два факта – факт биологического действия ионов воздуха и факт благотворного действия отрицательных ионов, удручающим образом действовало на мою психику, вынуждая меня остерегаться высказываний и замкнуться в себе, с другой стороны, это “осквернение” стимулировало мои духовные и физические силы для борьбы за истину и за продолжение исследований во что бы то ни стало, вопреки всем и вся»[229], – писал в начале 1960-х гг. Александр Леонидович. И в этой установке на борьбу его единомышленником стал К.Э. Циолковский, вселявший в ученого уверенность и духовно снаряжавший его «для борьбы за науку»[230].
Но был и положительный момент. Сванте Аррениус везде, где бывал в своих разъездах по странам Европы, позитивно говорил об исследованиях Чижевского. Стало формироваться мировое признание Чижевского как ученого. 20 мая 1920 г. в своем письме к Чижевскому Аррениус писал: «Господин Чижевский! Я имел счастье познакомиться с результатами Ваших работ по ионизации воздуха. Ваша гипотеза представляется мне чрезвычайно интересной, возможности, следующие за развитием этой гипотезы, заманчивы. Вы экспериментально доказали факт биологического действия ионов воздуха на человеческий организм, на природу – этот факт, бесспорно, имеет огромное значение для науки, этот факт открывает большие перспективы для развития научной мысли. Мне хотелось бы поближе познакомиться с Вами, хотелось бы вместе поработать, поспорить… С глубоким уважением, Сванте Аррениус»[231] (курсив мой. – С.А.).
Старт был взят. А.Л. Чижевский как ученый состоялся уже к своим 23–25 годам и заявил о себе в полную силу.
5.3. Чижевский в литературном кругу первых лет советской власти
Вхождение А.Л. Чижевского в круг литературы и поэзии состоялось осенью 1915 г. Стимулом к этому послужила дружба со студентом юридического факультета Московского университета Г.И. Эджубовым (Зубовым) и с «кандидатом прав» А.А. Крупенским (Дубенским). Оба увлекались сверхмодными формами поэзии. Именно они приохотили Чижевского к посещению литературных кружков модернистского и умеренного толков. В зимние семестры 1915–1916 гг. Чижевский знакомится со многими писателями и поэтами – И.А. Буниным, В.Я. Брюсовым, В.В. Маяковским, С.А. Есениным, А.Н. Толстым, Л.Н. Андреевым, А.И. Куприным, И. Северяниным и др. Увлечение поэзией породило раннюю книгу Чижевского «Академия поэзии», о которой позитивно потом отозвался А.В. Луначарский.
К.И. Шилин и И.В. Александров в статье «Северяне и японцы – становление живой социологии культуры ноосферы», отмечают, что поэзии как форме творчества изначально присуща «ориентация на гармонию-с-природой», «на эко-гармонию на-равных и неприятие отношений борьбы с природой»[232], и пишут о «подлинной перспективе развития как Поэта и Художника, творящего себя, свое, безопасное общество и свою природу»[233]. Такая рефлексия-оценка, вытекающая из сравнительного сопоставления культур северян и японцев, находит подтверждение не только в целом в русской поэзии, но, в частности, в поэзии А.Л. Чижевского. Поэтический дар Чижевского гармонично сочетается с его научным даром и дополняет его, придает ему холистичность мышления, синтетизм научного восприятия. Это тот же союз науки и поэзии, который так плодотворно проявился в творчестве М.В. Ломоносова, который стоит у истоков Эпохи Русского Возрождения и придает ей целостно-космическую устремленность.