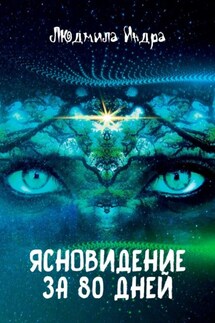Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. - страница 22
Следствие располагало показаниями о том, что Колошин формально отошел от руководства тайным обществом после Московского съезда 1821 г., но продолжал встречаться с некоторыми его членами вплоть до событий 14 декабря 1825 г., о чем говорили первые показания С.П. Трубецкого. 25 декабря было отдано распоряжение об аресте Колошина[80]. В тот же день на единственном допросе у В. В. Левашева в присутствии Николая I сам Колошин обнаружил круг связей (С. П. Трубецкой, И. И. и М. И. Пущины, Е. П. Оболенский, К. Ф. Рылеев), которые свидетельствовали о продолжении его контактов с деятелями конспиративного общества. Вместе с тем, на допросе Колошин представил тайное общество, в котором состоял, как просветительскую организацию; причастность к политическим целям и намерениям отверг. Как позже писал сам Колошин императору «…угодно было простить мне заблуждения прошедшие и поверить настоящему образу мыслей моих» [81]. После разбора бумаг и упомянутого допроса Петр Колошин «по высочайшему повелению» был освобожден[82]. В дальнейшем в руках следователей появились новые обвиняющие показания: по утверждению Е. П. Оболенского, Колошин знал о продолжении тайного общества после 1821 г., о существовании Северного общества, политических планах тайного общества[83]. Но это не повлекло за собой никаких дополнительных разысканий, не состоялось и привлечение к ответственности уже прощенного императором лица.
Согласно справке «Алфавита» Боровкова, юнкер л.-гв. Конного полка Александр Аркадьевич Суворов «при допросе отвечал, что, узнав от Одоевского, что есть люди, желающие блага государству и занимающиеся сим, он согласился взять в том участие, ежели не увидит ничего противного чувствам и совести. Более ничего не знал и ни с кем из членов сношений не имел»[84]. В этом достаточно лаконичном тексте справки содержится множество недоговоренностей. Сведения, собранные следствием и не учтенные в справке, несомненно, являлись с точки зрения обвинения более значительными. При обращении к записи самого допроса, проведенного Левашевым, обнаруживается более полная картина. В ответ на вопрос: «Что вы знали про общество тайное?» Суворов показал: «Прошедшею весною к[нязь] Одоевский с[о] мною заговаривал о чужих краях и о том, что я заметил[85], после чего он… уверил меня, что есть общество людей, желающих блага Государства, которые им занимаются, и на коих считать можно. Я согласился взять в них участие…». Признавшись тем самым в своем вступлении в тайное общество, Суворов убеждал: «В сношении с другими участниками сего я не был. О 14-м числе я ничего не знал. За три дня Одоевский спрашивал меня, что я буду делать, если велено будет присягать?.. Я сказал, что буду действовать с полком»[86].
Таким образом, на допросе Суворов признал, что весной 1825 г. согласился участвовать в обществе, члены которого «занимались» государственным «благом» (цель и содержание занятий не раскрываются), но при этом сопроводил свое признание смягчающим обстоятельством: он согласился вступить только на условии, если не найдет в этом сообществе «ничего противного чувствам и совести».
При достаточно нечеткой формулировке цели тайного общества большое значение приобретало утверждение Суворова о его неосведомленности о заговоре 14 декабря, а в особенности обозначенные им «принципы» своего согласия участвовать в обществе, очень близкие традиционным дворянским ценностям верности служебному долгу, официально декларируемым и поощряемым Николаем I. Если бы такие формулировки содержались в первых показаниях других арестованных, то, возможно, число наказанных по итогам процесса могло несколько уменьшиться. В результате Суворов был «по снятии… допроса по высочайшему повелению тогда же освобожден»