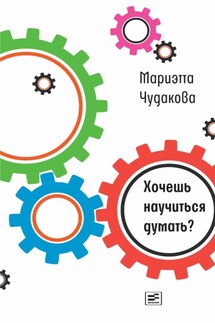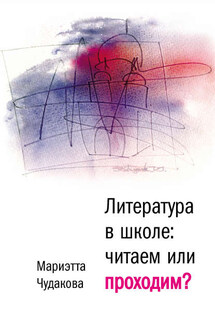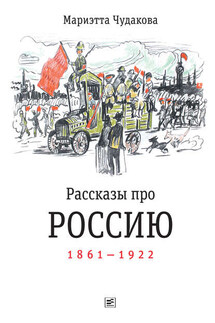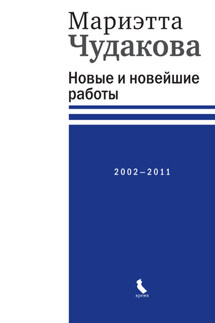Новые и новейшие работы 2002—2011 - страница 31
Нашел адрес Ионы Брихничева. Думал найти там родственников, пришел – открывает старик: “Это я”. Он умер в 1968 году.
Когда вышел из лагеря, хотел издать Вл. Нарбута. У него дома лежали груды выписок из всех журналов. Составил книжку – она так и не вышла. Экземпляр подарил мне…
Он очень ценил поэта Тинякова и искал его “Песни нищего”. Так и не нашел. Я ему говорил: “Чего ж ты про Тинякова в КЛЭ не напишешь?” – “Ты что? Хочешь, чтоб их вообще закрыли?”»
В. Берестов – своим культурным багажом, который он собрал еще в юности и который «держал» любые его выступления, и особенно перед детскими аудиториями (и всегда было чувство, что он способен на большее!), Л. Чертков – собиранием по букинистическим книг, давно исчезнувших из общедоступных библиотек, отыскиванием затерянных или просто втуне лежавших по домам родственников архивов и неутомимым, хотя нередко не приводящем к успеху, продвижением в печать выброшенных из нее имен, Ю. А. Молок – шедший в то же самое время и тем же самым путем поисков и восстановления в правах выкинутого из обращения, рассеянного и забытого за ненадобностью, но не в вербальном, а в изобразительном искусстве (сколько собрано им и издано несобранного, сколько перелопачено архивного материала в государственных хранилищах и семейных архивах!)[109], – все делали одно и то же дело. Они структурировали культурную почву – из пыли, в которую она была растерта.
Добавим к ним и младшее поколение – например, Юру Гальперина, в короткой биографии которого (1942–1984) многое представилось после его смерти, как писали участники Тыняновских чтений, общим «для молодых людей его поколения и круга: букинистические магазины, переписанные в блокнотик Цветаева, Кузмин и “Столбцы”, первые толки о Вагинове и обэриутах, поездка на дачу Пастернака…»[110]. Особо упомянем Гарика Суперфина (ему в Бремен отправили, как мы писали, архив и библиотеку Черткова), который в 16–17 лет освоил уже научную гуманитарную традицию в университетском объеме и лучше всех знал наследие Е. Поливанова еще в начале 60-х, когда гениального лингвиста, погубленного в расцвете творчества, никто и не думал издавать. Суперфин был в эти же годы едва ли не лучшим знатоком архивохранилищ (с их весьма скупым тогда справочным аппаратом), его широко известными в узких кругах «амбарными книгами» с бесценными выписками из архивных документов и справками по всему, наверно, XX веку еще долго пользовались близкие друзья после его посадки в 1973 году (за «Хронику текущих событий»).
Несколько слов о том, что происходило в ближайшем контексте – живописи, графике, искусствоведении…
Не мне писать о Ю. А. Молоке как искусствоведе. Но я, как и все занимающиеся XX веком, была усердным читателем его работ. Их потенциал был больше очевидного богатства материала и свежих мыслей. Статья «Начала московской книги: 20-е годы», все писанное им о Фаворском, изданные им тома наследия В. М. Конашевича и Н. Н. Купреянова дают перспективу для изучения того, как именно работа первоклассных иллюстраторов и оформителей книги соотносилась с чаще всего гораздо более бедными, идеологизированными художественными текстами. Порой она их усиливала, порой гасила, порой воспринималась совсем изолированно. Весь материал для такого исследования им предоставлен. Когда Молок пишет, что гравюры Фаворского к «Новогодней ночи» С. Спасского «не были повествовательным сопровождением текста»