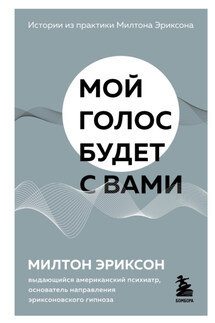Новые переводы. «Луч микрокосма», «Самозваный царь Степан Малый» - страница 18
Перевёл с сербского Олег Мраморнов
II
Самозваный царь Степан Малый
Драма
Предисловие
Степан Малый был лжец и бродяга, но взяв себе имя русского царя, составил целую эпоху в Черногории и вокруг неё. Его жизнь ещё никем не описана, только в преданиях сохранилась основная канва, а подробности уничтожило время. Документов у нас почти никаких нет, поскольку для изготовления патронных пыжей из-за нехватки бумаги использовались даже страницы священных книг; посему о пребывании Степана в Черногории не сохранилось ничего, кроме листочка игумена Феодосия Мркоевича, факсимиле которого я привожу.
Вследствие важности тех событий и необычности личности Степана я захотел о нём нечто написать. Но если бы случай не забросил меня в начале 1847 года в Венецию, ничего доподлинного я бы не смог сообщить своему народу.
Оказавшись в Венеции, я приложил все усилия, чтобы попасть в огромный архив бывшей Венецианской республики. Господин Томазео усердно поспособствовал моим занятиям. Хранителя архива, старого маркиза Солари, я почти растрогал свободной и весёлой поэзией горцев, и добрый старик угождал моим причудам; пять или шесть старательных писарей целых три недели рылись во всех архивных углах и выписали всё, что только касалось странного Степана и других вещей, относящихся к южным славянам.
Точные сведения о Степане я брал из депеш Паскуаля Цигони, чрезвычайного которского провидура, – он посылал их властям в Венецию. А сам провидур добывал эти сведения от своих шпионов из различных мест.
Что же касается Оттоманской Порты и того, какие средства она употребляла против Степана, то это видно по донесениям тогдашнего венецианского посла в Порте г. Юстиниана и вице-консула в Скадаре г. Дуодо. Пересказывать в подробностях, что писали эти трое, слишком долго, однако кое-что надлежит упомянуть, чтобы читатель поверил, что в моём сочинении нет ничего, что не основывалось бы на народном предании и на рапортах вышеназванной троицы.
Что такое народное предание, можно узнать из истории Милутиновича; а что пишет вышеназванная троица, могло быть найдено только в архивах.
Например, только у этих троих можно найти сведения о том, как пострадал из-за Степана печский патриарх; как Симо Цетинянин со своей дружиной изготовлял русские знамёна и посылал их в дар Степану. Там написано, как дубровчане отправили ему различные лакомства, вина и богатый паланкин (носилки). Там есть попугай Джая и сердар (граф) Бойович, там есть о том, как, подобно Мазепе, пострадал Степан от Арслановичей в Херцеге Новом; там есть монахи, которые приносили в посохе письма из России; там названы по имени все турецкие предводители, которые участвовали в этом деле; там есть патриарх Эспериус со своим намерением; там есть архимандрит барский Дебеля, серб душой и телом; там рассказывается про вторичный поход турецкого войска – стотысячное войско под водительством второго румелийского беглербега-валиса было послано Портой против Черногории в 1774 году. Но гибель Степана всё привела к развязке и утолила турецкую гордыню. Чего только об этом странном человеке не писали, именуя его то царём, то императором, остаётся только удивляться, насколько могут затуманиться людские головы.
Я написал это сочинение ещё в 1847 году, а теперь выпускаю его в свет в Триесте на Спасов день 1850 года.