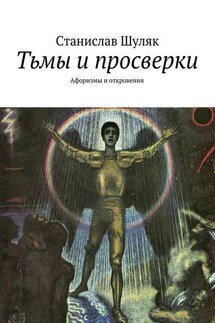Новый Ницше. и другие рассказы - страница 16
Я не знал, как провёл остаток дня. День будто порошком просыпался мимо меня. Не крахмалом, не тальком, но лишь тяжёлым порошком, быть может, содержавшим свинец, ванадий или висмут.
Я сделался заложником навязчивых неощутимостей.
Обессиленный я заснул. И снились мне оргии звуков, ритуалы артикуляций, мистерии межбуквенных интервалов.
Ещё мне привиделось, будто я говорил пред народом (слов не помню), а Бог и мир лизали мои подошвы. Всё человеческое во мне было тысячекратным, и в этом-то заключалось самое ужасное.
Проснулся я от чужих прикосновений. О нет, впрочем, прикосновениями назвать это было нельзя: меня схватили, меня прижимали к постели чьи-то сильные руки, меня стали душить. Была уже ночь, глубокая ночь, темно, но я вырвался, я всё-таки вырвался, я расшвырял в стороны всех своих мучителей, я бросился зажигать свет. Слышался испуганный топот многих пар ног, свет вспыхнул, но в комнате уж не было никого. Лишь проволочная удавка валялась на полу. Смятая же постель не была, конечно, никакою уликой.
Я схватил свою киянку с короткою ручкой и бросился в прихожую. Изо всех сил я ударил по зеркалу, стекло зазвенело, осколки посыпались на пол, один из них поранил мне ногу. Я бил ещё киянкою в стену, когда уже ни одного осколка стекла не было на прежнем месте зеркала.
Наташа! Наташа! Никогда мне больше не увидеть тебя!.. Что же я сделал? Я оборвал все нити, отринул все надежды, расточил все шансы. Оставалось только Смоленское, одно лишь Смоленское кладбище, одиннадцать часов… вот только утра или вечера? Быть может, я там увижу кого-то из них!.. Возможно даже, Игнатия. Вот уж тогда-то я выпытаю у них всё, я заставлю их говорить, они у меня не отвертятся.
Я едва дожил до десяти утра. Чудо было, что я сумел это сделать.
Они все нарочно старались отбросить меня подалее от надмирного пьедестала своими тотальными профанациями…
Я был одет, я кубарем слетел со своего четвёртого этажа. Во дворе меня смутили окрестные мальчишки. Они издали показывали на меня пальцами и что-то кричали.
– Смотрите! Гений, гений пошел! – кричал один из них, самый наглый.
– Гений, гений! – дразнил меня другой.
– А чего он тогда такой потрёпанный? – крикнул ещё третий.
– Бээээ!.. – крикнул и четвёртый, изображая, должно быть, иную глупую домашнюю скотину.
Ну вот, сразу уж и потрёпанный. Попробовали бы прожить, продумать, прочувствовать с моё!.. Я бы тогда на вас самих посмотрел!.. Быть может, существование моё могло хоть как-то оправдаться перед обстоятельствами поставкою иных надмирных услуг.
Я замахнулся на мальчишек, но они не испугались – лишь стали дразнить меня ещё злее. Тогда я побежал от них.
Зато я умел иною немыслимой фразой очаровывать молоденьких музыкантш. Мне представилась такая возможность, едва я выбежал из дома. Они несли с собою папки с нотами и шли в гинекологию, ту, что почти напротив моего дома. Немного наискось.
– Если бы вы юною своей музыкой могли восстановить или взлелеять моё утраченное отражение, – крикнул я, пробегая мимо музыкантш, усмехнувшись с заносчивою хитрецой. – Как это было бы хорошо!..
– Что? – застыли на месте продвинутые девицы, и я ощутил торжество.
Вообще гинекология – лучшая из всех дамских хитростей, чуть что – и они пускают её в ход, не тяжёлую артиллерию свою, конечно (тяжёлая у них тяжелей), но всё же какую-то артиллерию.
– Я имею в виду независимость ваших существований, – важно сказал ещё я, тоже остановившись на минуту, – бросившую случайный свет на моё существование. Но свет этот никогда не находит отражения.