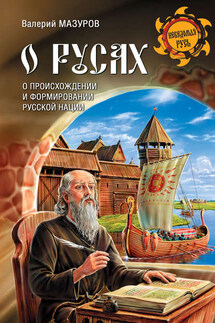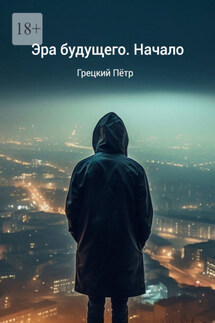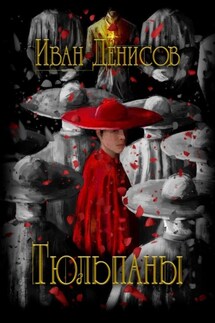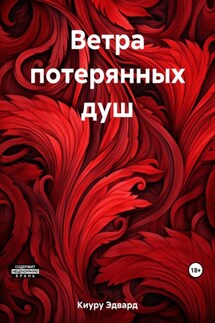О Русах - страница 27
Норманисты, несмотря на многолетние поиски в западноевропейских исторических материалах, так и не смогли найти среди северогерманских народов ни таких племен или родов, как «варяги» или «русь», ни информации о призвании или переселении каких-либо скандинавских родов к восточным славянам, ни тем более об овладении скандинавами Новгородской землей (превосходящей по размерам любое из германских государств того времени). Поэтому, чтобы доказать скандинавское происхождение слов «варяги» и «русы», они просто подбирали более или менее созвучные слова.
Поразительна изобретательность норманистов для обоснования скандинавского происхождения и слова «русь». Они подбирали отдаленно похожие на него норвежские и финские слова, игнорируя сообщения арабских, византийских и германских исторических материалов, в которых упоминается о народах «рус» и «рос», проживающих в Причерноморье и Приднепровье еще в первой половине нашего тысячелетия.
Г.З. Байер использовал для объяснения слова «русь» норвежское слово rops, которое в переводе означает «гребец». Г.Ф. Миллер взял наименование «Русь» из финского наименования Швеции Ruotsi (что на финском означает «страна гор»). А слово «варяг» Г.З. Байер вывел из скандинавского «варг» – «волк» и преподнес его как синоним слова «разбойник». Такая характеристика скандинавов со стороны их соседей, возможно, и справедлива, но сами-то себя вряд ли они так называли, и уж тем более славяне не могли их называть чужим непонятным словом. Искусственность таких обоснований норманистами слов «русь» и «варяг» очевидна.
Как было ранее сказано, наем князя с военной дружиной для обороны торгово-ремесленной республики в Новгороде было рядовым явлением как до Рюрика, так и спустя много лет после него. Приглашался князь или воевода с военной дружиной. Новгородцы заключали ряд (договор) с ним на вече, в котором определялись условия найма, права и обязанности князя, оплата, места размещения дружины. Причем несколько поколений новгородцев избирали князя из одного и того же княжеского рода. Князь Гостомысл, согласно преданиям, был девятым представителем этого рода (ободритских князей).
В случае нарушения князем условий найма договор (ряд) аннулировался. Так, например, новгородцы трижды расторгали договор с Александром Невским, несмотря на его заслуги перед Новгородом в организации отпора вторжений шведов и Ливонского ордена.
Таков же был и найм Рюрика и его дружины. Рюрик, как отмечено в сохранившихся списках, в течение 2–4 лет (данные разных летописей об этом сроке различаются) размещался со своей дружиной не в самом Новгороде, а в Старой Ладоге, то есть в крепости, прикрывавшей путь к Новгороду по реке Волхов с севера. Некоторые авторы предполагают, что Рюрик и заложил Старую Ладогу. Однако археологические раскопки свидетельствуют о том, что Старая Ладога существовала уже в VII в.
В археологических слоях Старой Ладоги, относящихся к VII в., обнаружены остатки металлолитейной печи с элементами металлообработки – шлаки, заготовки, обломки литейных форм, приспособления для изготовления проволоки, гвоздей и ладейных заклепок, клещи разных размеров, зубила, сверла, наковаленка и инструменты для изготовления украшений из бронзы и серебра. Кроме того, найдены и готовые изделия. Это означает, что еще в VII в. на месте Старой Ладоги было достаточно большое селение, так как литейное производство и мастерские были только в больших селениях. Вероятно, в нем осуществлялось строительство или ремонт судов. Дендрохронологический анализ деревьев, использовавшихся для строительства Старой Ладоги, показал, что они срублены в 612 г., то есть за 2,5 века до прибытия Рюрика. Вероятно, это селение использовалось новгородскими мореходами для стоянки и подготовки судов перед их выходом в море. Поэтому ни о каком строительстве Рюриком Старой Ладоги и речи не может быть. Она существовала минимум за 2,5 века до его прибытия. Рюриком же в Старой Ладоге, вероятно, была построена крепость для защиты от шведских набегов.