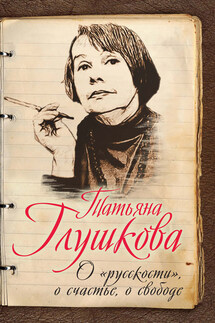О «русскости», о счастье, о свободе - страница 3
Правда, тут еще легкая зависть – в сравнении с той «глубокой», «мучительной», что привела Сальери к убийству Моцарта. Но не следует верить и этому «добродушию» – в связи с Пиччини и Глюком: Сальери «не завидовал» – то есть не завидовал смертно, или не был еще, как он сам говорит, «змеей, людьми растоптанною, вживе Песок и пыль грызущею бессильно», – потому что не видел еще серьезной причины для настоящей, влекущей к убийству зависти. Дело в том, что Пиччини не убедил его в безусловной нерукотворности искусства. И не потому, что сам Пиччини был ремесленник, но потому, что для того, чтобы поколебать такого рационалиста, как Сальери, бывает недостаточно таланта, а нужен именно ослепительный, «всесокрушающий» гений – вроде Моцарта. Нужен гений в полном расцвете его сил, в полном развитии его всепокоряющей славы – так что недостаточно даже, быть может, «Ифигении начальных звуков»… Так велика вера истинного рационалиста в ratio. На такой высокий пьедестал ставит он рассудок, «науку», усердье, труд. Так не верит он в тайны мира, природы, искусства.
Ведь вот что говорит он о Глюке: «…Когда великий Глюк Явился и открыл нам новые тайны…» Открыл тайны, а не указал на тайны… А открытое можно разрабатывать, «осваивать», доходить до «предела», воспринимаемого как конечная, «полная» истина… Тут и впрямь нужны, даже незаменимы сальери. Ибо гений – устремился бы дальше: к новым, новейшим тайнам, а вовсе не пошел бы «вслед за ним (Глюком. – Т.Г.). Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную».
«…Встречным послан в сторону иную»… Тут – вся случайность пути Сальери, этого безропотного ведомого. Путь тут диктуется не изнутри, он не заведомо, органически присущ, но указуется кем-то извне. Тут вся несамобытность героя, всецело и «безропотно» зависимого от вожатого.
Из Глюка Сальери почерпнул ложное представление о тайнах, которые якобы можно научиться «открывать» и, во всяком случае, успешно «разрабатывать». В каком-то смысле это и впрямь применимо к музыке. Однако – лишь постольку, поскольку имеются в виду «тайны», а точнее – секреты, контрапункта, а не сила, могущество оригинального содержания. Надо ли говорить, что Глюк не повинен в адаптированных представлениях Сальери о тайнах? Тайнах, которые требуют ясновидения, тайнослышания, а не подразумевают некий доступный всякому добровольцу «шифр» к ним?..
Что Сальери «не завидовал» Глюку, Пиччини, молодому Моцарту, при том характере, который очерчен Пушкиным, – это свидетельствует не о любви Сальери к искусству, не о бескорыстии, а только о непонимании искусства, непонимании его принципиальной, глубинной сущности – недоверни к неподкупности ее. Когда Сальери говорит о «любви горящей, самоотверженьи», якобы присущих его отношению к искусству, – это ложь. Ибо это любовь к искусству в учете выдуманной его, искусства, природы. Той, а вернее – такой, природы, которая предусматривает место, почетное место для самого Сальери и предполагает даже возможность для не-гения сравняться с гением, а быть может, и превзойти его. То есть природа искусства исчислялась Сальери от природы отдельного человека, данного человека – своей собственной природы. От природы субъективной, относительной, частно-единичной, пусть и отнюдь не совершенной. По такому рассуждению, искусство не «единосущно» (Блок), и тем самым оно «демократично» – доступно обручению с ним каждого желающего, а тем паче труженика, «усердца».