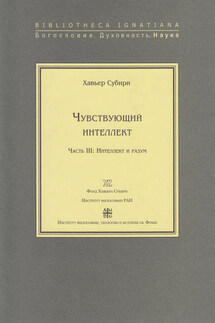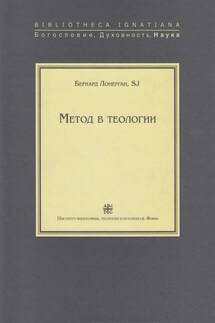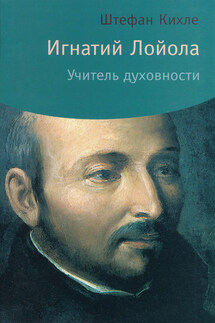О сущности - страница 29
В итоге сущность, о которой говорит рационализм, будет в лучшем случае объективным понятием сущности, а не самой сущностью вещи. И поэтому то, первое, понятие сущности не будет фундаментом второго: ни в качестве радикальной истины, ни в качестве внутренней возможности, ни в качестве идеальной вещи. Конечно, рационализм не может не признавать и действительно признает, что в таком понимании сущность реализована в вещи, а значит, является ее внутренним моментом. Этим он отличается от любых концепций сущности как чистого «смысла» или близких к ним учений. Но для рационализма это – всего лишь уступка, к тому же очевидная. Потому что, будучи утвержден в горизонте рациональной причинности, рационализм не верит в то, что быть внутренним моментом вещи – это первичная и радикальная характеристика сущности. Он также ничего не говорит нам об этом реальном моменте самом по себе, а лишь противопоставляет его существованию. Единственное, что отличает здесь сущность как внутренний момент вещи от сущности как чистого понятия, – это контингентный «факт» ее существования. Абстрагируясь от него, мы получим чистую сущность, и эта чистая сущность окажется сведенной eo ipso к чистому объективному понятию. А это означает уклоняться от проблемы сущности, потому что для нее первично и радикально – быть внутренним и реальным моментом самой вещи, независимо от любого интеллектуального конципирования и от любого возможного отношения к существованию. Одним словом, проблема заключается в физической сущности самой по себе, как таковой. Смешение или, по крайней мере, неразличение «физической» сущности и того, что последние схоласты называли «метафизической», или абстрактной (я бы сказал, концептивной) сущностью, то есть смешение того, без чего вещь не может обладать формальной реальностью, и того, без чего вещь не может быть помыслена: вот фатальное заблуждение рационализма в том, что касается нашей проблемы.
Глава пятая
Сущность как реальный коррелят определения
Итак, ни формальное понятие, ни объективное понятие не приводят нас к удовлетворительной идее сущности. Но это выражение, «сущность есть реальность понятия вещи», может указывать еще и в третьем направлении: реальность вещи – это не концептуальная реальность (ни формальная, ни объективная), а сама вещь как коррелят ее понятия. Другими словами, реальность того, понятием чего является понятие, есть помысленная реальность не qua помысленная, а qua реальная. В таком случае определение сущности опирается не на истину понятия, а на реальность. Понятие будет всего лишь органом, посредством которого мы схватываем, что́ есть вещь в ее сущности; а сама сущность будет тем, что́ в вещи, как ее реальный момент, соответствует понятию. Такова точка зрения Аристотеля. Но то, что мы здесь называем понятием, Аристотель скорее называет определением. И причина этого очевидна: ведь сущность есть «что́», есть τί чего-либо, а ответ на вопрос о том, что́ есть нечто, – это для Аристотеля и есть определение.
Поставив вопрос о сущности таким образом, Аристотель начинает с того, что приближается к реальной вещи по пути определения, чтобы вслед за тем сказать, что́ есть сущность как реальный момент вещи (τὸ τί ἦν εἶναι).
Во-первых, о пути определения. Речь идет не о логике, а о том, чтобы узнать, какой должна быть реальная вещь, чтобы относительно нее имелось определение. Аристотель называет это «продвигаться λογιϰῶς [логически]». Логос, именуемый определением, составлен из предикатов, которым соответствуют меты вещи. Из этих мет одни предицируются логосом их субъекту в силу того, что́ этот субъект есть сам по себе (ϰαθ’ αὐτό), тогда как другие предицируются вещи, но являются для нее привходящими (ϰατὰ συμβεβηϰός). Так, мета «живое существо» подобает Сократу в силу того, что́ он есть сам по себе, а именно, человек; но не так обстоит дело с «музыкантом», потому что быть музыкантом для него – привходящее свойство. Предикаты любого определения принадлежат к первому типу. Но не все предикаты определения составляют часть сущности вещи. Сущность вещи высказывают лишь те определения, в которых предикат не является «свойством» субъекта и в которых, следовательно, субъект формально не входит в сам предикат определения. Если я хочу дать определение белой поверхности, то «белизна» будет метой, которая «сама по себе» требует субъекта-поверхности; но она требует его потому, что просто является его свойством, так что этот субъект формально отличен от белизны. В силу этого в определении белой поверхности необходимо ввести в предикат, в той или иной форме, слово и понятие «поверхность». Так вот, сущность вещи выражают только те определения, в которых предикат подобает субъекту «сам по себе», без того, чтобы этот субъект формально входил в сам предикат, то есть без того, чтобы определяемое входило в определение.