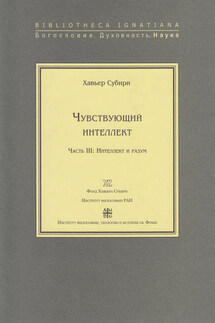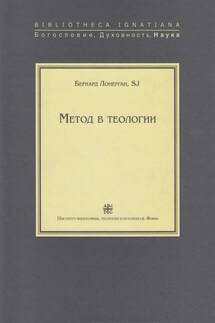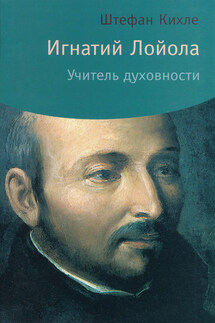О сущности - страница 31
Здесь Аристотель вынужден обратиться к структуре природной субстанции. На первый взгляд, можно подумать, что сущность есть субстанциальная форма, то есть то, что оформляет неопределенную материю, чтобы сделать из нее определенную субстанцию. В таком понимании сущность отличалась бы от вещи лишь так, как формальная часть субстанции отличается от целого, от полного гилеморфического составного сущего (τὸ σύνολον), каковым и является указанная субстанция. Именно об этом субстанциальном составном целом сказывается его формальная часть, предицируемая ему в качестве его сущности. Но если говорить о природных субстанциях, это неверно, потому что им всем (я оставляю в стороне бога, θεός) «по природе» сущностно свойственно иметь материю. Различие между субстанцией и сущностью проходит не между субстанциальными началами как таковыми, а в другом пункте. Чтобы его обнаружить, достаточно понаблюдать за естественным порождением субстанций. Когда Сократ рождает сына, то сын, сколь бы он ни был индивидуально отличен от отца, всегда будет, равно как и отец, «человеческим» существом. Стало быть, этот «человеческий» характер есть характер «видовой». Как таковой, он не «логичен», а реален и «физичен», поскольку отцы реально и физически рождают сыновей, обладающих «теми же характеристиками», что и они сами. Так вот, именно этот реальный момент видовой то-же-самости и есть сущность человека. Материя входит в нее наряду с формой, но входит совершенно особым образом: не «вот эта» материя, а материя «вообще». Разумеется, коль скоро существует нематериальная субстанция, θεός, то есть чистая форма, и коль скоро даже в материальных субстанциях форма является субстанциальным актом, оказывается, что сущность некоторым образом может быть названа формой. Поэтому различие между сущностью и субстанцией – это не различие между формой и субстанциальным составным целым, а различие между видовым субстанциальным составным целым и индивидуированным субстанциальным составным целым. Характеристики, привходящие к сущности, суть эти индивидуирующие моменты.
Эта интерпретация сущности как того, что заключает в себе саму материю «вообще», – не единственно возможная, ибо в этом пункте, как и во многих других, высказывания Аристотеля нелегко согласовать друг с другом. Есть места, где Аристотель, казалось бы, говорит, что сущность любой субстанции заключается только в ее субстанциальной форме. Но и в такой интерпретации сущность состоит именно в моменте видовой определенности формы. В конечном счете, здесь для нас важно только это.
Итак, сущность как реальный момент субстанции есть физический момент ее видовой определенности, специфичности. Все ее неспецифические характеристики, будь они акцидентальными или индивидуирующими, являются, с точки зрения Аристотеля, не-сущностными.
И здесь сходятся два понятия сущности: как реального коррелята определения и как реального момента субстанции. В самом деле, вспомним о том, что для обозначения понятой таким образом сущности Аристотель воспользовался словом, которое хотя и было уже философски освящено, однако использовалось у греков и в своем обыденном значении: словом «эйдос» (εἶδος), которое латиняне перевели как species, «вид». У Аристотеля это слово имеет два значения. Первое – это именно обыденное в Греции значение, и это играет решающую роль в нашей проблеме. Эйдос означает единую совокупность черт, или характеристик, в которых становится «видимым» (именно поэтому он и называется «эйдосом», видом) класс вещей, к которому принадлежит данная реальность, способ бытия этой реальности: собака, птица, человек, дуб, олива и т. д. Это типичная форма, которая «делает видимым» способ бытия вещи. Для Аристотеля субстанциальным началом таких характеристик служит субстанциальная форма (μορφή), то есть форма, «оформляющая» бытие вещи в неопределенной первоматерии. Именно поэтому Аристотель называет первую субстанциальную форму эйдосом. Но, с другой стороны, я могу сделать этот эйдос термином моего предикативного логоса, сопоставив его с другими эйдосами (εἴδη). Тогда я обнаруживаю, что они обладают некими более или менее смутными характеристиками, которые могут быть равно атрибуированы им всем и которые выдают их родство, их общее происхождение, единый ствол: их γένος (род), на основе которого можно говорить о чем-то вроде их генеалогии, – разумеется, не физической, а логической, основанной на самых общих («генеральных») сближениях. В таком случае эйдос означает не то, что физически делает видимым способ бытия вещи, а то, что выражает «род», к которому она определенно принадлежит. И тогда эйдос будет всего лишь одной из многих конфигураций, в которых может определенно выразиться род, причем он объемлет не только форму, но и материю «как таковую». Хотя латинское слово