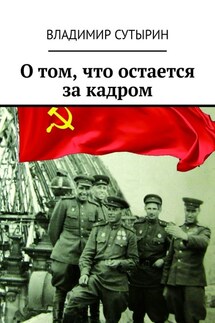О том, что остается за кадром - страница 14
Наше наступление с целью деблокирования Ленинграда всё никак не приносило успеха, и работа по воспитанию вдохновителей будущих побед требовала постоянных усилий.
Политрук А. И. Сутырин. 1942 г.
Казалось бы, что нового в дополнение к уставам и уже известным директивам можно было донести на этих курсах до фронтовых политработников? Но нужно понимать, что находясь в лесах и болотах переднего края, бойцы и командиры оторваны от всего остального мира. Им неведомо, что происходит не только у них в тылу, но и у соседей – справа и слева. Знание о том, что на других фронтах наступают успешней, что уже освобождены первые занятые врагом советские города и села, рассказы о подвигах, информация о международном положении – всё это расширяло понимание того, какая задача предназначена каждой воинской части, входящей в состав Волховского фронта, и всем этим своевременно должны были быть вооружены комиссары батальонного, полкового, бригадного, дивизионного и корпусного уровня.
Н. В. Трущенко вспоминает, что «когда была опубликована Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченной ими советской территории, мы, вооруженные ее текстом, пошли по землянкам: нужно было рассказать о ее содержании каждому воину…
В этом документе говорилось об издевательствах над советскими людьми и массовых убийствах, о глумлении над значительными памятниками русской культуры. Говорилось, что режим ограбления и кровавого террора по отношению к мирному населению захваченных сел и городов представляет собой не какие-то эксцессы отдельных недисциплинированных военных частей, отдельных германских офицеров и солдат, а определенную систему, заранее предусмотренную и поощряемую германским правительством и командованием…
Такие документы рождали у воинов жгучую ненависть к врагу, неукротимое стремление разгромить фашистских захватчиков».
В ближнем тылу партполитработа велась на различном уровне. Так, Б. Ф. Редько вспоминает, как его, заместителя политрука, направили на пятидневные курсы при политотделе дивизии: «Занятия в «лесной академии» (так в обиходе называли мы свои курсы) проводили комиссар дивизии, начальник политотдела и другие опытные политработники.
В эти же дни меня приняли в партию».
Характерно, что заявления о приеме в партию в войсках писались накануне вступления в бой. Комбриг Б. Владимиров вспоминает, как в марте 1942 г. воины его 140-й бригады до ввода в бой совершали тяжелый шестнадцатисуточный ночной марш по глубокому снегу, в котором вязли даже лошади. Но бойцы стойко переносили тяготы, понимая, что идут на помощь осажденному Ленинграду. И еще до завершения перехода, за первые десять его суток, бойцами было подано 47 заявлений о приеме в ВКП (б). Это был показатель работы политруков и их заместителей накануне марша и в течение его. Комиссаром бригады в этот период был Б. М. Луполовер.
Подобное же вспоминает В. А. Крылов, в начальный период войны – старший политрук дивизиона 23-го артиллерийского полка 4-й гвардейской армии: «Сержант Федор Митрофанов, помощник командира взвода боепитания, подал мне листок бумаги. Читаю: „Прошу считать меня коммунистом. Право быть принятым в партию я заслужу в бою“. Об этом же заявили командиры орудий сержанты Кинжалов, Вьюнов, Макиенко, Дубина, рядовые Михеев, Золотарев. В то утро, перед началом боя, партийная организация дивизиона увеличилась на 15 коммунистов».