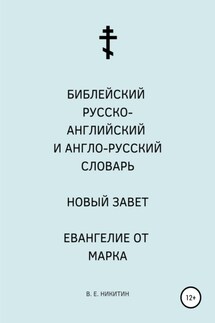О вере, неверии и сомнении - страница 15
Нередко думают (да и мы, семинаристы, были заражены этим подозрением), будто семинаристы, а тем более их учителя – безбожники… Слава Богу, это была великая неправда. Я не знал буквально ни одного учителя (не говоря уже о профессорах академии) ни в духовном училище, ни в семинарии, который бы был безбожником.
А про одного преподавателя – З-го И. В-ча – ходит непонятно почему, молва: неверующий… Каково же было мое потом удивление, когда я узнал, что он чуть не ежедневно ходит в Казанский монастырь[10] к ранней литургии и знает почти наизусть святцы всего года!.. Как был рад этому! Когда я уже был в 6-м классе семинарии, к нам приехал новый преподаватель церковной истории, Фантин Николаевич Альешкин. Талантливый… Живой… Он так нам рассказывал события истории Русской Церкви, что мы иногда аплодировали ему в классе. Небывалое дело. Но и был требователен в спросах; и не считался с установившейся традицией – вызывать нас в очередь. Братья остались недовольные и послали меня, как первого ученика, для ведения переговоров. Прихожу. Он ласково принял. Предлагает даже папиросу. Не курю. Передаю просьбу товарищей. Принял спокойно и согласился сразу… А потом начал рассказывать мне о Киевской Лавре, о пещерах и святых мощах: как он любил посещать их. Я удивленный, боязливо задаю вопрос:
– Фантин Николаевич! Да разве вы – верующий?
– Что за вопрос? – с изумленными глазами спрашивает он меня вместо ответа.
– Да ведь знаете: у нас, семинаристов, укоренилось убеждение, что если кто – умный, тот – неверующий!
Он даже весело рассмеялся. И долго радостно мы беседовали с ним о вере. И товарищи рады были сдачей его нам… Что касается семинаристов, то я знал почти исключительные примеры неверия. Но, правда, были… В нашем классе двое лишь представлялись «атеистами»: М-в и А-в… Но на них и на их неверие решительно никто не обращал ни малейшего внимания. И даже не уважали их. Пустыми считали. В академии потом был на нашем курсе один студент из Сибири, забыл его фамилию. И на него не обращали внимания. Он даже и не смел вслух говорить с нами о своем «безбожии». Все это было – верхоглядство… Как у Достоевского в «Бесах» – Верховенский…
Но ворочусь еще к отрочеству.
Остается вспомнить тут очень немногое. Жизнь шла, в общем, тихо, ровно: вера всегда жила в моей душе; я исполнял все церковные уставы – ходил в церковь, говел дважды в год, молился дома, соблюдал посты, старался жить возможно благочестиво, занимался учебой (21 год всего)…
И это тихое житие почти не нарушалось до самого поступления в СПб Академию. Это совсем не значит, что вера была «мертвой»; наоборот, все шло нормально; а это обычно не замечается нами, как мы не замечаем, например, своего здоровья, и лишь когда заболеем, тогда поймем: чего мы лишились.
Однако же припомню еще кое-что из этого возраста, хотя оно и покажется незначительным.
Я никогда не любил неверия. Сердце мое инстинктивно отталкивалось от него; оно искало выхода, если я встречался с подобными людьми, или просто относилось равнодушно к ним. У меня, например, был близкий друг; к концу семинарии он заявил, что он – неверующий. Сын священника. Но я по-прежнему любил его и дружил с ним, гостил у него; и абсолютно не заражался его неверием; да он и не думал уговаривать меня. После он убеждал, правда, меня идти в университет; но я пошел в академию. Однажды я гостил у него (от святок до масленицы, не поехав даже под предлогом болезни в семинарию; да и правда, отчасти болели мы оба, ангиной). И вместе с его матерью, прекрасной христианкой, отправились верст за 50 навестить святого священника, о. Василия Светлова