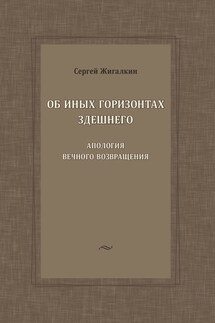Об иных горизонтах здешнего. Апология вечного возвращения - страница 27
К примеру, такой: всеведение, абсолютная полнота таковы лишь в том случае, если способны постигнуть, включить в себя всё, также неведение и несовершенство. Но находиться в неведении, постигнуть его и пережить может лишь ограниченный ум – конечное, несовершенное существо. Логически безупречно: всеведению неведение недоступно. И чтобы всеведение всё же было всеведением, оно против всей логики должно быть способно преображаться и в ограниченное существо, во всякое ограниченное существо.
Так или иначе, в преображённом мгновении мир из призрачного и мимолётного превращается в реальный, то есть в причастный к вечности, где навигация совершенно иная. Реально и значимо всё – каждая мелочь, каждый пустяк. Особую значимость приобретают все наши действия, намерения и устремления – ведь всё, что исходит от нас, нас же и создаёт, запечатлевает нас в вечности такими, какие мы есть в данный миг.
С одной стороны, мгновение – это картина, которая только что окончательно завершена, не зависит от нас и представлена нам как свершившийся факт, с другой стороны, оно же – молниеносный творческий акт создания этой картины, в которой мы сами, как тоже художники и одновременно как натура, по собственной воле многое можем запечатлеть.
Хотя присутствие вечности смещает «окончательную развязку всего» из «посмертного будущего» в настоящее, где всё «уже стало» таким, каким и пребудет всегда, это не означает, что перемены, течение времени пропадают, теряют весь смысл. Поток становления не прекращается, мир по-прежнему движется неизвестно откуда, неизвестно куда, только теперь всё происходит в метафизическом измерении. Хотя проживается та же судьба – свершаются те же события, приходят те самые мысли, захватывают те же фантазии, грёзы и сны, те самые чувства, в этом уже невозможно забыться: всё становление как бы сдвигается на второй план. План первый недвижный: присутствие вечности, её отражение в шелесте трав, капле росы, в горной лавине и урагане, в блаженстве, кошмаре, ненависти и любви – во всём существующем в целом и в каждом мельчайшем штрихе.
Отрицание мира ввиду его обречённости становится неоправданным, ведь вечность не в будущем, а прямо здесь. Отсюда и новое отношение к мирозданию: вместо его отрицания – его утверждение: позиция проблематичная и очень сложная, но она со всей очевидностью следует из учения о возвращении всех вещей. Понятно, что в космологии этого учения много неясности, темноты. Но мир, бытие – это скорее непредсказуемая и подвижная тайна, нежели предустановленные закономерности и константы, доступные аналитическому уму.
Хотя отрицание мира и несовместимо с доктриной о возвращении, оно тем не менее тоже как будто возможно: если, к примеру, считать эту жизнь сплошь кошмаром и больше не видеть в ней ничего. Правда, такая позиция не ведёт к избавлению, напротив, она превращает всё мироздание в ад, откуда действительно выхода нет.
Однако возможность подобной позиции всё же сомнительна, ведь если кому-то открылась причастность мгновения к вечности, немыслимо, чтобы он не узрел единства, величия, целостности и красоты бытия.
О сравнениях времени с кругом
В четвёртой книге «Физики» Аристотель отмечает, что время кажется каким-то кругом.
«Je mehr man kennt, je mehr man weiß, // Erkennt man: alles dreht im Kreis». – «Чем больше знают, чем больше понимают, // Тем очевиднее: всё движется по кругу», – констатирует Гёте.