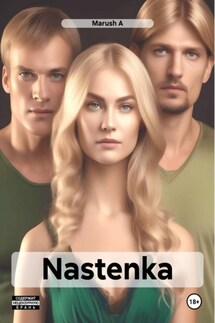Обитель лилий - страница 17
– Запишите все, что я буду диктовать.
Он прочищает горло, замирая, потому что сомнения разъедают его сердце. Не вспомнить, когда в последний раз он писал что-либо, кроме юридических документов. Однажды отринув мысль о том, что его страстью является писательство, и смирившись с надобностью жить так, как требуют родители и общество, Герберт похоронил надежды, обменяв их на всеобщее одобрение.
Его голос тихой мелодией разносится по процедурной. Лисбет, уверенная в том, что он диктует ей завещание или тайное послание, записывает каждое произнесенное слово. Но молодой мужчина говорит не о разделе имущества после его смерти или о секретном коде, который поймут его приближенные. Иссохшими губами он шепчет, как женщина лежит у покосившейся изгороди, запутавшись в цветах; как заговорщически улыбается, когда он склоняется к ее лицу, и как смыкает их губы, увлекая его за собой в разросшуюся траву. Вдалеке цветут лилии. Они оба больны, и нет надежды на спасение – когда завтрашнего дня не существует, есть только мгновение, и они тонут в нем, как друг в друге.
Герберт переводит дыхание, поднимает на медсестру усталый взгляд. Она с раскрасневшимися щеками кусает ручку, проверяя написанное.
– Что это за произведение? – спрашивает Лисбет, смущаясь, потому что представила все, что прочитала. Краснеет веснушчатый нос. – Хочу узнать продолжение.
Он безмолвно смотрит на нее. Не впервые люди говорят ему, что им нравится его творчество. В юности их было достаточно, чтобы он наивно уверовал в собственный талант. Нельзя обольщаться, поддаваться мнимым порывам и сиянию чужих глаз.
– Можете оставить написанное у себя? Завтра я хотел бы продолжить.
– Да, ручкой вы и правда можете воспользоваться только в фойе под присмотром, – бормочет она. – Я постараюсь присутствовать завтра в процедурной, когда у вас будет капельница. Но обещать не могу.
– Я понимаю. Спасибо, – медленно поднимается с койки Герберт. Борется с тошнотой, стиснувшей горло. Холодный, красивый, богатый – да-да, полный комплект. Сейчас он, весь из себя маменькино совершенство, согнется пополам, и колючий больничный свитер перепачкается в серовато-зеленой из-за постоянных лекарств, склизкой рвоте.
IV
Он не знает, почему попросил медсестру зафиксировать на бумаге мысль, возникшую в его голове. Привычка подавлять эти бесполезные порывы, не несущие выгоды в адвокатском поприще, была стабильна, пока вместо них не осталась зияющая пустота.
Годы жизни, а особенно пребывание в больничных стенах, научили его не полагаться на человеческое милосердие. Герберт был готов к тому, что Лисбет обсудит с Хирцманом произошедшее. Это ее работа – докладывать, и даже имей он возможность чувствовать, не стал бы на нее злиться. Мир суров, и молодая девушка продолжает бежать в гонке под названием жизнь, трудиться во благо себя и близких, когда он, напротив, выбыл из игры и предпочел путь наименьшего сопротивления – сойти с ума.
– К слову, хотел спросить, – главврач перелистывает журнал, подчеркивая в нем информацию с точностью ювелира.
Герберт, как всегда, сидит в кресле напротив и смотрит в окно. Сегодня не видно телят. Наверняка их отвели пастись на другое поле. Как прекрасна для них окружающая действительность: новые просторы и пастбища не пугают, а удивляют, когда рядом есть тот, на кого можно положиться и кто защитит в случае опасности. Людская жизнь не отличается, только по прошествии лет этой фигурой человек должен стать для себя сам. Так его учил отец, и Герберт всегда страшно гордился, что был его сыном, – в те моменты, когда не чувствовал себя бесполезным.