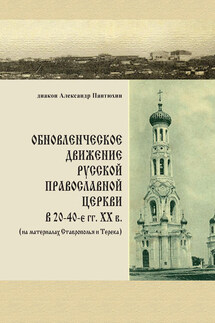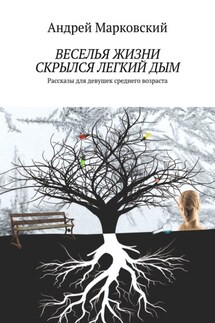Обновленческое движение Русской Православной Церкви в 20–40-е гг. XX в. (на материалах Ставрополья и Терека) - страница 38
В январе 1923 г. были предприняты новые попытки увлечь в раскол осетинское и горское духовенство. 16–17 января священники-обновленцы Ф.П. Коробов, Х.Д. Цомаев, С.П. Лукьянов и М. Малюшицкий попытались организовать Президиум Владикавказского епархиального управления [282], но их затея провалилась благодаря жестким мерам А.П. Малиновского.
В конце января 1923 г. А.П. Малиновский под давлением власти был вынужден пойти на признание обновленческого ВЦУ, мотивируя этот шаг желанием сохранить в мире православное духовенство. Священниками Коробовым, Ивановым и Окладновым в г. Владикавказе был организован комитет «Живой церкви». Было разрешено образовывать кружки ревнителей обновленчества. В ВЦУ был сделан запрос о программе церковного устройства[283].
Анализируя деятельность горского духовенства во второй половине 1922 – начале 1923 гг., можно придти к выводу об использовании А.П. Малиновским и его соратниками навязываемого им обновленчества в целях легитимации автономистских мероприятий по отделению приходов Северной Осетии, Кабарды, Чечни и Дагестана от Пятигорской епархии. Подобные тенденции обнаруживаются при изучении обновленческого движения в Чувашии и других национальных регионах. Учитывая, что в январе 1923 г. состоялся переход самообразованного Владикавказского епархиального управления в обновленчество, можно сделать вывод о расколе обновленчества на Тереке на два основных направления: Пятигорское (обновленческие епископы Макарий (Павлов) и Александр Шубин) и Владикавказское (избранный в епископа протоиерей А.П. Малиновский), отличавшиеся своим отношением к обновленческому ВЦУ и церковным реалиям первой половины 1920-х гг.
Интересно отметить, что с признанием А.П. Малиновским обновленчества и развертыванием церковных реформ во Владикавказской епархии, на группу из шести священнослужителей, стоявших во главе епархиального управления, было заведено уголовное дело и 28 февраля они были приговорены к высылке на юго-восток СССР, но приговор в исполнение приведен не был, и они остались жить в Северной Осетии[284]. Владикавказская епархия вновь лишилась своего руководства. Вероятно, мероприятия по обезглавливанию осетинского духовенства были проведены, чтобы верующие спустя некоторое время без сопротивления приняли обновленческого архиерея.
Значительно отличался процесс перехода духовенства в обновленчество на Ставрополье. В июне 1922 г. Кубано-Черноморский и Ставропольский комитеты РКП(б) приняли решение поддерживать местные «революционные группировки» в Церкви для усиления раскола[285]. Специально для руководства «революционными» священниками была разработана система отчетности перед местными органами власти в форме секретной переписки.
Первым Ставропольским обновленческим архиереем осенью 1922 г. стал архиепископ Назарий (Андреев), имевший еще дореволюционное епископское поставление. Но, в отличие от Пятигорской и Кубанской кафедр, в Ставрополь специально был переведен обновленческий епископ, что говорит о резком неприятии обновленчества ставропольским духовенством в 1922 г.
После возглашения анафемы на обновленчество и запрещения обновленцев в священнослужении, ВЦУ, опасаясь возвращения архиереев старого поставления под омофор патриарха вместе с епархиями, стало назначать на северокавказские кафедры новых обновленческих архиереев. В июле 1923 г. в Пятигорск был назначен женатый «епископ» из протоиереев Александр Шубин, а в Ставрополь – епископ Георгий (Крашенинников), рясофор, обновленческого поставления