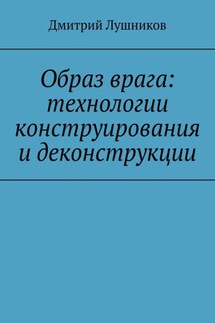Образ врага: технологии конструирования и деконструкции - страница 20
Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк в своей работе «Жизнь и развлечения в средние века» показывает насколько серьезно и эксклюзивно европейская знать относилась к организации охоты и сколь расточительно – к содержанию охотничьего двора: «В XIV и XV вв. богатые дворяне стремились сделать охоту настолько роскошной, насколько могли. Правитель Милана Бернабо Висконти (ум. 1395 г.) имел свору в пять тысяч собак для охоты на кабана. Этот вельможа приказывал карать смертью крестьян, изобличенных в убийстве хоть одного из диких животных. …Король Карл VI издал в 1396 г. ордонанс, подписанный в Париже, которым запрещалось заниматься охотой всем лицам неблагородного происхождения. Охотничий двор его брата Людовика, герцога Орлеанского, состоял из «одного обер-егермейстера (maître veneur); десяти пажей по псарне, двое из которых особо состояли при борзых; девяти псарей и двух бедных слуг, каковые не имели никакого жалования и спали по ночам вместе с собаками». «Свора насчитывала девяносто девять гончих собак, девять ищеек и тридцать две борзые собаки по оленю, не считая собак на кабана, а также комнатных борзых и сторожевых его высочества». Собаки были предметом особой заботы – их отправляли в паломничество, им посвящались мессы.
Фруассар пишет [34. L. 1. Ch. CXXI], что Эдуард III, находясь в 1359 г. во Франции со своей армией (король Иоанн в это время был в плену), имел в своей свите «тридцать сокольников конных, птицами нагруженных, да добрых шестьдесят пар собак крепких и столько же борзых, с каковыми каждый день ходил на охоту».
Герцоги Бургундские обладали самыми многочисленными охотничьими дворами: «Шестеро пажей псарных при гончих, шестеро при борзых; двенадцать младших пажей псарных, шестеро управляющих псарями; шестеро псарей при борзых, двенадцать псарей при гончих, шестеро псарей при спаниелях, шестеро при малых собаках, шестеро при английских и артуаских собаках».29
Но есть и другой способ зооморфной легитимации власти – главного природного Врага-хищника можно приручить и доместицировать. И это также свойства и признаки Героя и сакрализуемой Власти. Опасное животное может тронуть обычного человека, но оно признает доминирование сильного и храброго человека и каким-то образом чувствует проявленность в нем сверхчеловеческого/сакрального, поэтому с неизбежностью подчиняется воле Героя и Вождя. Как следствие, прирученное опасное животное свидетельствует об особых качествах хозяина, его связи с сакральным и праве властвовать над другими. Появление владельца опасного животного в его сопровождении на публике должно вызывать тревожность и страх, подкрепляющие почтение и уважение перед его авторитетом и статусом. Здесь мы сталкиваемся с механизмом зооморфной легитимации и сакрализации власти.
Фараоны и древнеегипетская знать держали дома крупных кошек, в основном гепардов и львов, которых завозили с территории современного Судана. Гепардов содержали не только как домашних экзотических животных, у них было и практическое и религиозное применение. Их использовали для охоты и в качестве