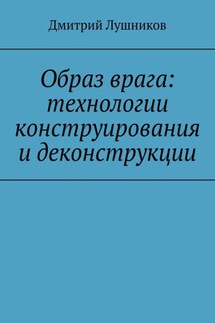Образ врага: технологии конструирования и деконструкции - страница 22
Однако использование опасных для человека животных в целях легитимации и сакрализации власти может вызвать отторжение, когда политик переходит границы культурно—одобряемого и приемлемого. В «Естественной истории» Плиния Старшего находим такой фрагмент: «Надел на львов ярмо и первым в Риме впряг их в повозку Марк Антоний – это произошло во время гражданской войны после решающей битвы на Фарсальской равнине, причем не без того, чтобы показать положение дел: это был чудовищный поступок, намекавший на то, что можно укротить даже благородные души. Первым же человеком, осмелившимся приручить льва и показать его, уже прирученного, был, как говорят, Ганнон, один из самых выдающихся карфагенян, за что и был наказан: ведь рассудили, что человек со столь изобретательным умом способен убедить людей в чем угодно, и что они ошибочно доверили свою свободу тому, кто сумел полностью подчинить себе даже свирепость».32 Негативное отношение к поступку Марка Антония мы обнаруживаем и у Плутарха: «Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряженные в колесницу львы…».33
Помимо визуальных образов и эффектов, существует и вербальные, языковые маркеры зооморфной легитимации и сакрализации власти. Одна из известных скотоводческих метафор церкви как пастыря, пастора (ивр. רועה, лат. pastor «пастух») проходит по всему тексту Библии. Церковь, как пастырь, пасущий агнцев Божьих – это своеобразная вербальная доместикация, отраженная в языке. Бог, Иисус, его проповедники и община верующих представлены в скотоводческой лексике.
«Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).
«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных» (Ис. 40:11).
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11).
«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое» (Иер. 31:10).
Реальность, в которой формировались тексты Нового Завета, отражает черты сложного, стратифицированного общества с относительно развитой системой разделения труда, идущей урбанизацией, существенными структурными противоречиями и конфликтами. И ценности, которые принес Новый Завет, позволяют существовать именно в таком сложном обществе, с вертикальной социальной иерархией, увеличившейся плотностью населения и частотой социальных связей. В таком обществе необходимы новые нормы поведения и механизмы торможения, трансфера и сублимации агрессии. Ибо ветхозаветные ценности и нормы в данном обществе начинают работать против его единства и стабильности. Ветхозаветный принцип талиона («око за око») заменяется иным – «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39). Духовная и ценностно—нормативная инновация христианства заключалась в инкорпорации социального контроля в сознание индивида, который признает ответственность за свою жизнь и спасение, рефлексирует над эндогенными факторами собственного поведения, развивает в себе внутренний локус контроля.
Однако язык верующих новозаветной эпохи демонстрирует некий «культурный лаг», отражая ветхозаветные ценности, скотоводческие (если конкретизировать, то овцеводческие) образы и метафоры. Отсюда, с одной стороны, «пастыри», «агнцы», «стада», «овцы», а с другой – угрожающие им дьявольские «звери», «барсы», «волки», «хищники». Сам дьявол, «враг рода человеческого» – это злонамеренный хищный зверь, испытывающий и разрушающий пасторальную идиллию скотоводческого общины/церкви верующих своими искушениями. И если его не остановить, то он обрушит загоны – спасительные ограждения, поддерживаемые верой праведников, и перегрызет все стадо. Спасение верующего – «овцы» в «стаде» «пастыря» в собственной вере и искуплении греховности, которые приумножают веру «стада» и помогают «пастырю» вести его в правильном направлении.