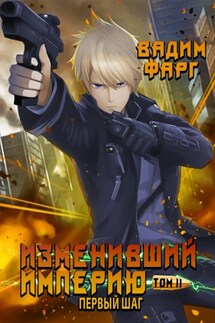Общая часть уголовного права - страница 30
1. Функциональную сферу уголовной политики образует борьба с преступностью (противодействие преступности).
Альтернативный характер словосочетаний «борьба с преступностью» и «противодействие преступности» указывает на то, что определение функциональных горизонтов уголовной политики может быть произведено при помощи и одного, и другого выражения: каждое из них обозначает оказание наступательного воздействия на преступность. Однако, по мнению некоторых теоретиков, парадигма «борьба с преступностью» имеет определенные дефекты, которые сказываются в конечном итоге на содержании и результатах правотворческой и правоприменительной практики.[189] Относясь с уважением к данной позиции, полагаем, тем не менее, что в противовес аргументам, приводимым в ее обоснование, можно сформулировать следующие доводы.
Во-первых, термин «борьба с преступностью» употребляется для отражения процесса, сущностным свойством которого является стремление к победе над наиболее опасным видом антисоциального поведения – преступностью. Абсолютно непонятен поэтому негативизм, демонстрируемый С. С. Босхоловым при упоминании о борьбе как о непримиримом противостоянии сторон с конечной целью победы.[190] На наш взгляд, именно борьба с преступностью представляет собой ту сферу, в которой правильность сформулированного тезиса подтверждается со всей очевидностью. Мириться с существованием преступности и бездействовать – абсурдно, а вот желание победить ее – напротив, вполне естественно. Другое дело, что победу в рассматриваемом случае не следует толковать буквально, ассоциируя ее с полной ликвидацией преступности. Речь должна идти о победе над ростом последней, над появлением качественно новых ее форм, над совершенствованием методов криминальной деятельности… Собственно, из такого представления о перспективах борьбы с преступностью и исходит все разумное человечество.
Во-вторых, «борьба» действительно предполагает использование самых решительных мер (в «борьбе с преступностью» – наиболее строгих мер государственного принуждения), однако отнюдь не любые, как пишет С. С. Восходов.[191]
Современная медицина не в меньшей степени, чем уголовная политика, оперирует термином «борьба», но это вовсе не означает, что для борьбы, например, с социально опасными заболеваниями могут применяться такие кардинальные меры, как изоляция или физическое уничтожение их носителей. Поэтому беззаконие и произвол, риск появления которых в процессе «борьбы с преступностью», безусловно, существует, находятся в прямой зависимости не от применения анализируемой парадигмы, а от содержания господствующей в государстве политической воли либо от ее полного отсутствия. Способна ли, с учетом изложенного, замена словосочетания «борьба с преступностью» каким-либо другим выражением автоматически отразиться на содержании и результатах практики уголовного правотворчества и правоприменения, придав ей априори позитивную направленность? Полагаем, что нет.
В-третьих, «борьба с преступностью», обозначая «активную наступательную деятельность путем воздействия на процессы детерминации, обусловливания этого антисоциального явления и применения к лицам, нарушающим уголовный закон, соответствующих мер государственного принуждения»,[192] может осуществляться на самых различных этапах и иметь самые различные векторы реализации. Именно такое, широкоаспектное, понимание борьбы с преступностью давно устоялось на практике; оно охватывает не только пресечение, но и предупреждение криминальной деятельности.