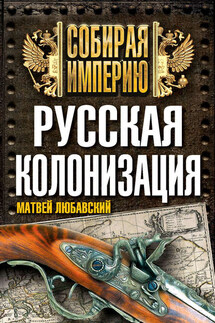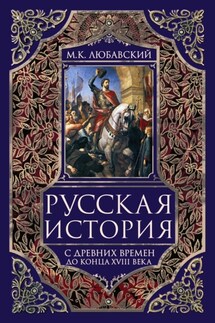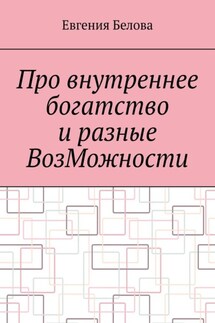Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - страница 34
История Древней Руси, в понимании Любавского, оказалась разбитой на пять основных периодов: I «догосударственный» (до IX в. (гл. I–VI)[276]); II – время образования и утверждения Великого княжества Русского (IX начало XI в. (гл. VI–VIII)[277]); III эпоха «областного строя» (XI начало XIII в. (гл. IX–XII)[278]); IV Русь удельная (середина XIII конец XV в. (гл. XIII–XVIII[279]); V-Русь Московская, единодержавная, абсолютная монархия (конец XV–XVI в., (гл. XVIII–XXIV)[280]). Как видим, в периодизации весьма последовательно брался курс на разрешение главной проблемы работы, намеченный во введении: «выяснение генезиса и первоначальной формировки» Древнерусского государства.
Сопоставление периодизации истории Древней Руси М. К. Любавским с периодизацией В. О. Ключевского позволяет сделать вывод о том, что ученик был гораздо более последовательным «государственником», чем учитель, а понимание Любавским движущих сил русской истории являлось гораздо более узким в сравнении с учителем. Ставка в политике на сохранение в России конституционной монархии, страх перед развалом этого института, потрясенного Революцией 1905–1907 гг., и желание подвести под рушившиеся представления о его незыблемости новые идеологические подпорки все это объясняет важнейшую особенность курса М. К. Любавского, в котором история Древнерусского государства становится доминантой всей русской истории. Политика вторгалась в историю, направляя перо ученого в сторону той тенденциозности, против которой он выступал на словах.
Однако у Любавского имелся ряд моментов, которые достойны положительной оценки. Это прежде всего понимание ученым истоков древнерусской истории не как начала самого государства. Исходной точкой исторических построений курса стал рассказ об эпохе палеолита на территории Восточной Европы. Наличие у него специальных знаний в области археологии, этнографии и языкознания обусловило более широкое и верное понимание исторических истоков Древней Руси, чем это было свойственно русской историографии начала XX в. Именно поэтому, прежде чем перейти к проблеме образования Древнерусского государства, ученый включает в свой курс ряд лекций, посвященных скифо-сарматскому периоду в истории Восточной Европы, эпохе Великого переселения народов. Они подводили к теме «Общественная организация восточных славян накануне образования Древнерусского государства».
При ее рассмотрении М. К. Любавский вводит еще одну новацию, нетипичную для общеисторических курсов тех лет, историографический экскурс по теме. Рассматривая социальную структуру восточных славян в VIII в., он подвергает, в частности, специальному разбору существующие по этой проблеме исторические концепции родового быта: Эверса общинного быта славянофилов; «земскую» В. И. Сергеевича; задружно-общинную В. Н. Лешкова; торгового происхождения городовых областей В. О. Ключевского и др.