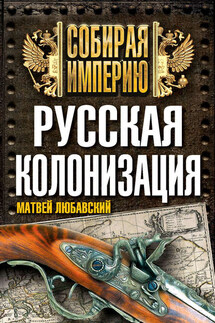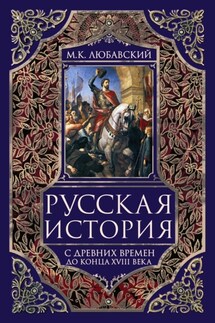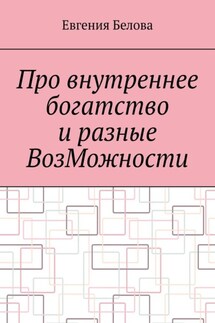Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - страница 36
Хорошее знание источников и внимание к проблемам социально-политического развития позволили М. К. Любавскому высказать интересные соображения. Иначе, чем В. О. Ключевский, оценивал он роль первых русских князей, которые были не только «военными сторожами», но и «устроителями внутреннего порядка»[291]. И хотя создавшееся политическое единство не было крепким, а родившееся государство не являлось еще сплоченным телом, сам факт его существования в X в. не вызвал у историка никаких сомнений. Характеристика политической формы этого государства как «федерации под главенством великого князя» [292] находит поддержку в отечественной историографии[293]. Правда, понимание его социально-экономической основы в XI–XII вв. у Ключевского и следующего за ним Любавского принципиально отличается от концепции, принятой большинством советских историков: у первых это рабовладение[294], у вторых феодализм[295].
Из наблюдений над социальной структурой Древнерусского государства X-XI вв. Любавский сделал выводы о существенном ее изменении после «норманнского призвания», начале сословной дифференциации (появление наряду с классами «свободных и рабов» «военно-торгового класса»)[296], образования «княжеского общества». В «княжье общество» входили, по мнению историка, и смерды, эти, по его словам, «княжьи мужики» разряд сельских жителей, «обложенный данью» и «несущий военную службу во время войны»[297]. Введение христианства и организация церкви способствовали дальнейшему социальному расслоению древнерусского общества: «появилось духовенство, занявшее привилегированное положение». Оно сильно продвинуло вперед эволюцию княжеской власти, способствовало ее превращению в государственную[298]. Хотя, как считал историк, княжеская дружина в Х начале XI в. еще не сделалась «земледельческим классом», но эта будущая ее социальная позиция уже наметилась. Князь с Х в. начал распоряжаться землей, в XI в. княжеское сельское хозяйство было налажено[299].
Делая интересные и верные наблюдения на основе анализа древнерусского права (в частности, Русской Правды), Любавский видит причину социальной дифференциации, общества в «усложнившихся задачах по управлению и обороне страны», но не видит экономические социальные ее корни