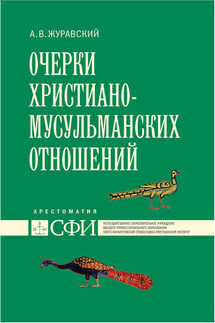Очерки христиано-мусульманских отношений. Хрестоматия для теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений - страница 10
1. Соловьев = Соловьев В. С. Третья речь в память Достоевского // Он же. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 307–318.
2. Творения = Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М.: Индрик, 2002. 416 с. (Святоотеческое наследие; т. 5).
3. Caspar = Caspar R. Traité de la théologie musulmane. V. 1: Histoire de la pensée religieuse musulmane. Rome: PISAI, 1987.495 p.
4. Christianisme = Le Christianisme et les religions du monde: Islam, Hindouisme, Bouddisme. Paris: Éditions du Seuil, 1986, 614 p.
5. Islam = Islam and Christianity: Mutual Receptions since the mid-2oth Century / Ed. by J. Waardenburg. Leuven: Peeters, 1998. VIII, 320 p.
6. Rescher = Rescher N. Studies in Arabic Philosophy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1968. Ch. 9: Nicolas of Cusa on the Qur’an. P. 137–146.
Межрелигиозный диалог: путь к розни или путь к общению [10]
Межрелигиозный диалог, казалось бы, – один из эффективных путей противостояния силам, сеющим ненавистную рознь, таким разрушительным, деструктивным тенденциям в современном мире, как тоталитаризм, терроризм, национальная, культурная, религиозная ксенофобия и пр.
Однако это не всегда так. Существует одна опасность. У нас она выявилась в начале 1990-х гг., когда мы заговорили о диалоге религий. В советские времена о таком явлении либо не знали, либо не писали, а если писали – изредка и очень коротко, – то исключительно как об очередной буржуазной идеологической диверсии (верующие разных религий должны бороться за мир, а не вести диалог).
И вот, когда заговорили, тогда-то и выяснилось, что межрелигиозный диалог может быть понят ложно. И тогда он сам превращается в деструктивную силу, ведущую людей не к подлинному общению, а к розни. И таких ложных форм диалога довольно много. Например, представление о диалоге как межрелигиозном компромиссе. Так, одно время было довольно популярно писать (не у нас – у некоторых западных авторов) об «авраамическом экуменизме». И даже необязательно компромисс. Любая попытка искусственно сблизить религии – это подмена диалога.
Один пример. Председатель Совета муфтиев Равиль-хазрат Гайнутдин заявил, выступая на международной конференции «Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития», что богословский межрелигиозный диалог между представителями ислама, христианства и иудаизма в России можно начать с обсуждения Корана как «третьего завета», с обсуждения триады: «Ветхий завет —
Новый завет – Коран как третий завет». Ну, хорошо. Но как тут быть, если иудеи не согласны пользоваться даже диадой Ветхий Завет – Новый Завет?
Но муфтия Равиля-хазрата, по крайней мере, можно понять. Он ищет пути к реальному богословскому диалогу и не случайно приводит в пример католиков. В современном католичестве некоторые богословы (например, ни много ни мало Ганс Кюнг) утверждают возможность признания ислама богооткровенной религией. У нас многие священники продолжают считать ислам религией сатанинской, а некоторые договариваются и до заявления, что Аллах – это сатана.
Другой весьма распространенный стереотип. Диалог, понятый как союз двух вер против третьей. Например, православные и иудеи России должны объединиться, чтобы противостоять протестантам, которые отбивают у Церкви прихожан, а евреев обращают в христианство. Или с мусульманами диалог Церкви возможен, а с иудеями нет, потому что первые почитают Деву Марию, а вторые не почитают. Или православные и мусульманские фундаменталисты должны объединиться в борьбе против сатанинского Запада. В первой половине 1990-х на страницах газеты «День» или журнала «Элементы» звучал призыв к продолжению и углублению великого диалога «славянского космоса и исламского универсума»