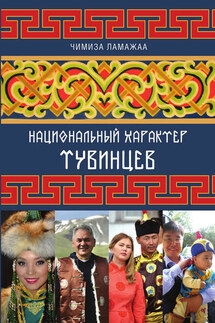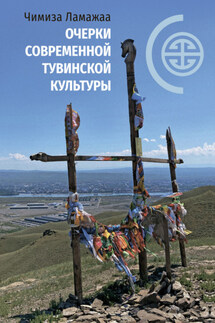Очерки современной тувинской культуры - страница 2
«Тувинское время» (тывауё) – идиома, распространившаяся в постсоветское время в Туве, выражающая неспешность тувинцев, их ориентацию не на показания циферблата, а на некие внешние факторы, которые побуждают действовать (природные явления, указания от кого-либо), а также невозмутимость в ситуации принятия решений.
Эта относительная неспешность и тувинцев, и монголов, и других народов кочевой культуры уже достаточно описана в научной литературе как одна из особенностей пространственно-временной картины мира. В целом подобное отношение ко времени у кочевников можно назвать степным временем, которое до сих пор удивляет приезжих в Туве, в Монголии, других регионах.
Например, монголовед, дипломат, историк, публицист М.И. Майский, в начале XX в. работавший в Монголии, писал, что известную пословицу «Время – деньги» в монгольской степи следует «вывернуть наизнанку»: «Время – не деньги». Ситуацию, которая привела его к такому выводу, он описывал так:
«Если вы уславливались с монголом о выходе каравана в пятницу, вы могли быть уверены, что он приведет верблюдов только в воскресенье или в понедельник. И если вы обрушивались на опоздавшего с упреками, он с самым невозмутимым видом заявлял:
– А я думал, что ты в этот день не поедешь.
– Как не поеду, как у нас было условлено выступать именно в этот день?
– Да я посмотрел с утра – погода будто плохая, облака на небе… Я и подумал, что ты не поедешь… Куда торопиться? Дней в году много…» (Майский, 1959: 47).
Наблюдая за монголами, автор признавал, что это не пустые отговорки, а вполне искреннее убеждение. «Он (монгол. – Ч. Л.) просто органически не в силах был понять, как можно придавать значение выходу каравана в определенный день, потому что дней в году действительно много и все они для него совершенно равны» (Там же).
В одной из полевых записей во время поездки в Монголию в 1988 г. Н.Л. Жуковская упоминает о 9-дневном ожидании учеными поездки из Улан-Батора в поле. Сначала у них не было ни денег, ни машины, ни бензина, ни сопровождающего. Но даже при появлении транспортного средства и заправки выехать долгое время никак не удавалось: сначала один сопровождающий монгол не мог поехать (т. к. у него три дня назад родилась дочь), затем монголка, которая его заменила, не могла по разным причинам (то сложно собраться, то надо куда-то съездить, то просто несчастливый день)… (Жуковская, 2002: 52–53).
Монгольский ученый X. Цооху пишет, что для монголов любимым словом является маргаш — завтра. Оно эквивалентно словосочетанию «через 24 часа», но в действительности, к сожалению, может означать и несколько дней, даже недели. «В чем причина такого неудобного положения? – размышляет автор. – Монгол не может детально рассматривать суть задания или обязанности, он подходит к нему на основе душевной ориентации и допускает ошибку в распределении времени. Поэтому обещание “завтра” часто не выполняется вовремя» (Монгольский мир…, 2014:167).
После столкновения с такими примерами «природной распущенности», как называет это X. Цооху (Там же), после первого культурного шока и погружения в неспешный стиль жизни аборигенов люди западной цивилизации обычно начинают осознавать, что им проще оставить свои привычки, свою пунктуальность, чем пытаться добиться от местных жителей понимания и такой же заботы о быстро утекающих часах и минутах. Степное восприятие времени не связано с секундами, с минутами. Люди степи не распоряжаются временем, а приспосабливаются к нему, тем самым демонстрируя особое время культуры, особый темп жизненного уклада (Бортникова, 2017: 28).