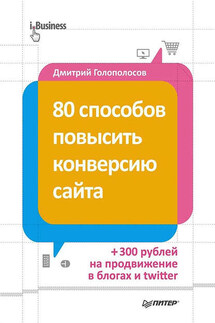Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти - страница 31
Историю миграции западноевропейских миссионеров, которой, как уже упоминалось, еще только предстоит быть написанной, можно было бы разработать как проект, альтернативный такому метанарративу, а именно, как историю тех, кто теряет. В тот момент, когда апостолы, окрыленные надеждой, отправляются на чужбину, они окончательно утрачивают родину, семью, собственность – словом, все, что в средневековом мире могло давать человеку опору, безопасность и чувство защищенности. Для слушателей миссионерских проповедей, опять-таки, интеграция в гемисферу латинского христианства означала необратимую потерю рано или поздно всех тех религиозных традиций, которые для многих поколений их племенного общества были определяющими. В нашем собственном настоящем мы вдоволь знакомы с обоими феноменами – почти полной утратой своих корней иммигрантами и страх перед вызванным ими изменением общественного порядка. И, пожалуй, едва ли кому-нибудь может прийти идея представить, например, историю климатических беженцев с территорий к югу от Сахары или школ по изучению Корана в Германии как историю победителей.
Богатство опыта в настоящем, с преимущественно негативными коннотациями, столь просто пролить свет на миграции раннесредневековых миссионеров, разумеется, не может. Как мы знаем со времен выхода в свет основополагающих работ Ханса фон Кампенхаузена, Жана Леклерка и Арнольда Ангенендта, они даже потерю родины, родительского дома и всего земного владения однозначно обращали в позитивное, умея трактовать ее в соответствии с определенными местами в Библии как форму аскезы181. Таким образом, благочестивые мужи добровольно проигрывали в земной жизни, чтобы когда-нибудь выиграть в жизни потусторонней. Для них самих и в глазах других людей этот опыт потерь, воспринимаемый позитивно, был настолько ключевым, что дал основания для расхожего обозначения миссионеров – (monachi) peregrini, что в зависимости от контекста можно перевести как оторванные от родины «странники» («Heimatlose») или пришлые «чужаки» («Entfremdete»). Помимо указания на физическое перемещение в пространстве, мобильность, то же самое peregrinatio аскетов часто обозначало еще и внутренний разрыв с миром, со всей его греховной жизнью, причем пространственное отстранение и спи-ритуальное можно было акцентировать и связывать между собой по-разному. В конечном счете, решающим всегда было то обстоятельство, что отказ от родины, от родителей, от владения происходил из религиозных побуждений, а именно из любви к Господу.
Кампенхаузен, Леклерк и Ангенендт уже несколько десятилетий назад определили идеал аскетического странничества (Heimatlosigkeit) как, несомненно, важнейший – наряду с общим призывом Христа к проповеди «благой вести» (Mt. 28:19-20) – движущий фактор для миграции средневековых миссионеров. Однако все трое историков Церкви, ограничившись выявлением библейской подоплеки мотива странствий и соответствующих сюжетных линий в духовной литературе, остановились в своих исследованиях как раз на том месте, где историку миграции только становится по-настоящему интересно. Ведь идеалы, на которые ориентируются люди, планируя свою жизнь, и действительность, как известно, обычно крайне редко совпадают полностью. И тут неизбежно встают два вопроса. Во-первых, удавалось ли этим благочестивым мужам на чужбине на самом деле порвать все связи с прежней родиной? И были ли они, во-вторых, способны действительно долгое время прожить на новом месте так, чтобы опять не превратиться в «своего», «местного»? При нынешнем состоянии исследований обобщающих ответов на эти вопросы ожидать не приходится; также и в будущем едва ли можно рассчитывать на однозначное «да» или «нет». Насколько сложным, равно как и переменчивым, может быть индивидуальное самоопределение в контексте альтернативы между «родиной» и «странничеством» в течение жизни мигранта в раннее Средневековье будет показано далее на примере Колумбана Младшего (ум. ок. 615).