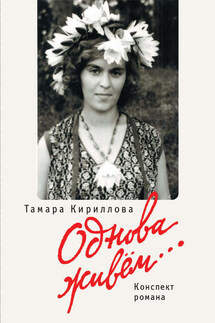Однова живем… - страница 29
Но я не сдавалась:
– Все равно уеду.
Некоторое время спустя Алёшу постигла кара. Как говорили у нас в посёлке, с Алёши содрали лычки и медали. Считалось, что он еще легко отделался, могли и посадить.
В эти годы у нас в жизни было много американского. Карточки отоваривали чаще всего американскими продуктами: соей, кукурузной крупой, шоколадом, яичным порошком, сухим молоком, тушёнкой, колбасой в банках. Существовал на плавучке какой-то распределитель ленд-лизовской одежды. Отец получил из этого распределителя два прекрасных пальто: одно кожаное, другое из верблюжей шерсти, а я несколько лет носила твидовое серое пальто и туфли на деревянной подошве. А ближе к окончанию войны поселок буквально заполонился американской одеждой и продуктами. У нас в поселке была база ЭПРОНа. Эпроновцы работали по поднятию полузатопленного американского транспортного судна и тащили с него всё, что можно было украсть. Наворованное эпроновцы меняли на водку. Водку мы, жители поселка, получали в обмен на сданные ягоды. Основная масса одежды и продуктов оседала в нижнем бараке и домах на берегу залива. До нас, до верхнего барака и до верхних домов, доходили только остатки. Но и этого было достаточно, и мы все, взрослые и дети, несколько лет щеголяли в невиданно красивых платьях, пальто и туфлях. Эти вещи прислали из Америки не по ленд-лизу. Это были пожертвования населения Америки, собранные Красным Крестом.
Я тогда думала так: если такие прекрасные вещи являются нормой для американцев, то как же хорошо они должны жить. Значит, в фильмах не такая уж неправда, как в этом меня пытался уверить отец.
Однажды из нижнего барака прибежала запыхавшаяся подружка:
– Проси у матери водку, там принесли балетное платье, недорого отдают, за маленькую, всё равно никто не берет.
Мы побежали вниз. На кровати лежала воздушная белоснежная масса неописуемой красоты, будто сошедшая с фотографий Анны Павловой.
– За сколько отдадите? – спросила я, боясь услышать в ответ «пол-литра».
– Я сказал, за маленькую, мое слово – олово, – ответил мордастый эпроновец.
– Я вас умоляю, никому не отдавайте, я выпрошу у мамы маленькую, я сейчас вернусь.
Я кинулась назад. К счастью, мама была дома. Я со слезами на глазах стала упрашивать ее. Мама не очень понимала, о каком платье идет речь, но четвертинку мне дала. Разумеется, платье оказалось мне велико. Мама ушила его в боках, и несколько вечеров подряд я становилась на цыпочки и танцевала не столько ногами, сколько руками перед благодарной публикой из нашего и нижнего барака. Тетя Надя сказала, что платье называется пачкой.
Комната у нас была просторная, и я ещё не раз что-нибудь показывала, благо зрители просили об этом.
Как-то у нас выступала концертная бригада из Москвы. Я была два раза на концерте, потом его передали по радио. Этого хватило, чтобы я выучила наизусть весь концерт, все мужские и женские номера, от «Бескозырки» до конферанса. Конферансье выступали вдвоем, у них был, в числе прочего, такой вот текст песенки:
И еще:
Что бы еще я ни исполняла, больше всего мне почему-то хлопали за эту песенку…
Осенью сорок четвертого года в Дровяном открыли начальную школу. К этому времени съехалось довольно много детей. Мурманск бомбили уже сравнительно редко, а в октябре началось наступление наших войск на Петсамо и Киркенес. Мимо Дровяного вилось по сопкам шоссе, и через нас проходили основные силы армии. Мы бегали смотреть на маршала Мерецкова. Он остановился на квартире у офицера Лизунова, которого дружно ненавидело все население Дровяного. Лизунов отправлял матросов на гауптвахту за малейшую провинность, и поговаривали, что расправа над киномехаником Алёшей – тоже его рук дело. Лизунов и его жена по прозвищу Лизуниха и до этого-то редко кого удостаивали взглядом, а тут уж они и вовсе загордились – как же, предварительно посланные адъютанты из всех квартир офицерского каменного дома выбрали именно их.