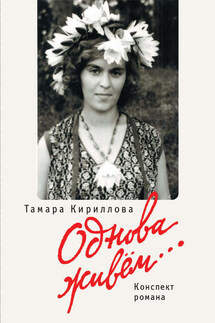Однова живем… - страница 31
В поисках каких-нибудь сетей или необычного рецепта засолки сельди отец мотался по побережью, привозил специального посола селедку и вяленую рыбу. Рыбаки варили из тресковой печени очень вкусную граксу. Была даже целая семужья эпоха. Сапёры разминировали дорогу к системе рек и озер, по которой шла на нерест сёмга. Во время войны никто её не ловил, и она шла тучей, ставили весло в воду, и оно не падало, держалось в рыбе. Начальство плавучки ездило на рыбалку. Рыбалка – это неверное слово для обозначения того, как добывалась сёмга. А добывалась она самым варварским способом – динамитными шашками. Бросали в воду шашку, она взрывалась, малую часть сёмги вылавливали, а остальная тонула и всплывала, кажется, через девять дней, прибивалась к берегам, издавая невыносимое зловоние. Мужики оправдывали себя тем, что все равно сотни тонн уплывают понапрасну, что они убивают крохотную часть от огромных масс рыбы, ну, и тому подобное.
Таких больших серебристо-розовых рыб я позднее не видела и не увижу. Мы варили тончайшего аромата уху, жарили сёмгу живописными кусками и ели свежепросоленную, зернышко к зернышку икру, ели действительно ложками. Мне не приходило в голову делать натюрморт с разрезанными кусками сёмги, но дядя Костя надоумил меня, рассказал, что был такой фламандский художник Снайдере, который писал сёмгу. Я взяла у отца сеть прекрасного серого цвета, а у Мурадянов попросила гжельскую тарелку с синей росписью, отрезала от крупной сёмги пару кусков, положила одну целую красавицу поэффектней и написала всё это, как могла. Получилось плохо, и я злилась. Показала дяде Косте. Он пришёл в совершеннейший восторг от композиции и цветового замысла и утешил меня тем, что когда я кончу академию, сёмга будет у меня на картинах серебриться и истекать розовым жиром.
Вкусовое и эстетическое впечатление от тогдашнего пира осталось настолько сильным, что я всегда, когда мне доводится есть то, что в ресторанах именуется сёмгой и икрой, испытываю легкое чувство брезгливости.
В школе я дружила с двумя девочками из моего класса – с Маней Ратахиной и Нолей Беляниной. Ноля не была родной дочерью Виталия Александровича, он был её отчимом. Я любила бывать у них в доме, в котором мы жили до войны, в этом же подъезде. У Виталия Александровича было несколько альбомов по искусству. Домой он мне их не давал, но в их квартире я могла просиживать за ними, сколько мне хотелось.
Стала я бывать и у Мани Ратахиной, где незаконным зятем жил дядя Коля-художник, которому под мастерскую выделили самую большую комнату. Альбомов у него было немного, но зато очень много открыток.
Маня тоже рисовала, и между нами довольно скоро возникло что-то вроде соперничества. Пока мы рисовали для себя, соперничества не было. Но вскоре мы стали получать заказы на рисунки. Сначала мы раздаривали их, но потом нам надоело рисовать по заказам, и мы стали отказываться. Но тут кому-то из заказчиков пришла в голову мысль платить нам за рисунки. В зависимости от сложности нарисованного мы продавали их по пять и десять рублей.
Так мы стали «халтурщиками» и конкурентами. Но, в отличие от дяди Кости и дяди Коли, я к халтуре относилась с почтением и рисовала по заказам ещё старательней, чем просто так. Не могу сказать того же о Мане. Я довольно скоро обнаружила причину её плодовитости. Оказывается, она брала свой собственный рисунок или какую-нибудь репродукцию в журнале, прикладывала это к оконному стеклу, накладывала сверху чистый лист бумаги, переводила на него рисунок, а потом все это раскрашивала.