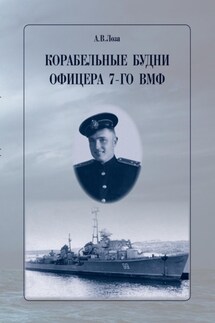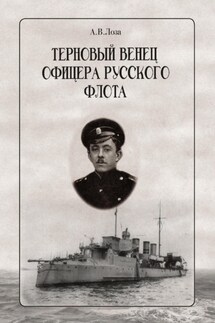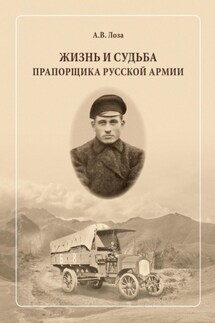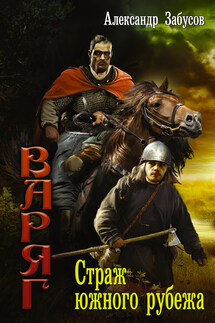Офицер черноморского подплава - страница 23
После спуска флага развлечения снова продолжались. «Потом немного спустя: «Из палубы всем выйти, палубы проветрить, переборки отдраить!» Все открывалось, и чистый воздух проветривал нижние помещения, где его всегда не хватало… Перед тем как наступал вечер и сырость из Инкермана спускалась на рейд, сверху доносились звуки последнего сигнала: «Орудия, штурвалы, компасы чехлами накрыть!»
И корабль был готов ко сну… Так проходил морской день на «Евстафии», в зимнее время, в так называемом резерве».
19 декабря 1913 года мичман П.П. Ярышкин убыл в 28-дневный отпуск, вернувшись на корабль 13 января 1914 года. После отпуска дни текли быстрее.
В начале марта 1914 года ранняя южная весна украсила Севастополь яркими цветами и молодой зеленью деревьев. Черноморский флот готовился к новой летней кампании. Севастопольский порт ожил. Катера сновали по Южной, Артиллерийской и Северной бухтам, буксиры таскали баржи с углем, припасами и боезапасом. То у борта одного, то другого корабля разгружались угольные баржи. Вокруг этих кораблей тучами поднималась угольная пыль. На линкорах при погрузке угля всегда играл судовой оркестр. Музыка придавала этой тяжелой и грязной работе какую-то особую бодрость и энергию. В своих «Записках морского офицера» офицер Императорского флота Н.А. Монастырев писал о погрузке угля: «Это был како-то своеобразный спорт. В конце каждого часа грузящиеся корабли сигналом показывали, сколько тонн он принял, и если оказывалось, что на несколько тонн больше, то яростный рев проносился по кораблю и корзины с углем с удвоенной быстротой летали по воздуху. Никто не хотел быть последним, так сказать, срамиться, и поэтому по всей эскадре угольные погрузки проводились быстро. Наиболее отличившемуся кораблю объявлялась командующим флотом благодарность в приказе и выдавался приз. Обыкновенно начинавшаяся ранним утром, погрузка кончалась к вечеру, после чего немедленно корабль мылся весь целиком и особенно тщательно. Тем не менее прием угля был нарушением корабельной жизни и событием, которое все недолюбливали. Слишком оно выводило всех из колеи и разводило грязь повсюду. Помню, после погрузки угля мы все ходили как бы с подведенными глазами, так как невозможно было за один раз вывести забившуюся всюду угольную пыль. Особенно тяжко это «развлечение» было в жару и в дождь. Все прочие авральные, общие работы на корабле были во много раз приятней и не чуть не были ни для кого трудными».
В один из таких суматошных и авральных дней мичман Ярышкин увидел странное зрелище, происходящее в Севастопольской бухте, которое его очень заинтересовало. Какая-
то необычная подводная лодка маневрировала на поверхности и пыталась погружаться, но не очень удачно. Как потом выяснил мичман, это был подводный минный заградитель «Краб», пришедший с судоверфи «Наваль» из Николаева. После испытаний «Краб» опять ушел на завод для доработок и вошел в строй только в июле 1915 года.
После погрузки боезапаса и топлива начались выходы кораблей эскадры в море для совместных маневрирований и артиллерийских стрельб практическими снарядами в районе выделенного полигона. Линкор «Три Святителя», на котором служил мичман П. Ярышкин, готовился выйти в море. Вместе с ним разводили пары и на линкорах «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Ростислав» и «Синоп».
Едва забрезжил рассвет, на линкоре «Три Святителя» раздались команды и дудки боцманов: «Пошел все наверх, с якоря сниматься!» Сотни ног затопали по палубам. Загремела, заскрежетала якорь-цепь выбирающегося якоря, скоро он показался из воды и линкор дал ход. Севастополь медленно удалялся. Вот скрылся из вида купол Владимирского собора… Пройдя мимо Херсонесского маяка, «Три Святителя» вышел в открытое море. Все на мостике почувствовали свежий ветер. Дышалось легко и свободно…