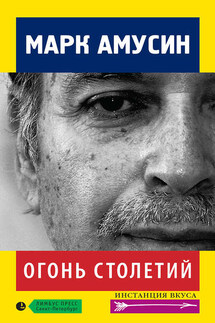Огонь столетий (сборник) - страница 2
Конечно, мировоззрение, строй убеждений, «чувство жизни» Герцена сильно привязаны к бурному и судьбоносному историческому отрезку, в котором он выступал активным деятелем. Точки соприкосновения этого периода, его проблематики с нашим днем – неочевидны. Да и позиция Герцена по отношению к тогдашним реалиям и «мировым вопросам» выглядит сегодня сомнительной и как минимум архаичной. Да, он был непримиримым противником царизма, николаевского деспотизма, крепостного права, погрузившего народ в болото бесправия, невежества и пассивности. Но он призывал к насильственному перевороту – а положение начало исправляться благодаря мирным реформам, инициированным царем-освободителем. А его вера в социализм, к тому же русский, крестьянско-общинный? К чему она привела? А его разочарованность в Европе, убежденность в том, что западно-христианская цивилизация стоит на краю гибели или вырождения и не способна к творческому развитию? Где сейчас упования и предсказания Герцена? Социалистический эксперимент провалился. И разве мы не пользуемся сейчас всеми благами той самой цивилизации, добившейся поразительного прогресса – научно-технического, экономического, социального? Нет, недаром многие критики революционаризма на протяжении все того же столетия горько пеняли Герцену за роль, которую он сыграл в раздувании будущего пожара. Да и тон упоминаний о Герцене в постсоветское время очень далек от панегиричности – смотри, например, статью профессора В. Кантора «Пути и катастрофы русской мысли» (журнал «Вопросы литературы», вып. 4 за 2009 г.).
При более внимательном рассмотрении вопрос о грехах и заблуждениях Герцена оказывается не таким простым. Специфика человеческой истории – как процесса и как предмета изучения – в том, что она никогда не дает однозначных ответов и уроков, не предполагает точных и окончательных выводов. Похоже, что историческое движение действительно совершается – правы, правы были «диалектики» – по спирали. На новых, далеко отстоящих от предыдущих, витках развития возникают вдруг коллизии и вызовы, болезненно напоминающие о том, что, казалось бы, давно разрешено и похоронено. А взгляды и суждения отдельных мыслителей, при рассмотрении в хронологической перспективе, могут оборачиваться попеременно то грубыми заблуждениями, то прозрениями.
В 1867 году, завершая «Былое и думы», Герцен пророчествует о безрадостном будущем Европы – ее мирная, мещански усредненная жизнь под властью французского и германского цезаризма должна взорваться катаклизмом войны: «Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри». В какой степени сбылся этот апокалиптический прогноз?
Спустя 2–3 года действительно разразилась кровопролитная по тем временам франко-прусская война, а ее прямым следствием явилось восстание французских пролетариев – Парижская коммуна с ее эксцессами, а также не менее жестокое ее подавление. Но за этим последовали не всеобщее разрушение и хаос, а сорок лет благополучного европейского развития, которое привело и к улучшению положения трудящихся классов. Казалось бы, вопреки предсказаниям Герцена, реакция отступила, призрак революции рассеялся, реформизм восторжествовал. (О борьбе этих трех начал – революции, эволюции и реакции – Герцен постоянно и напряженно размышлял.) Но потом случилась Первая мировая, с которой и начался «настоящий, не календарный» XX век – со всеми его виражами, миражами и жестокими чудесами. Так прав оказался Герцен или ошибся? Каверзный вопрос!