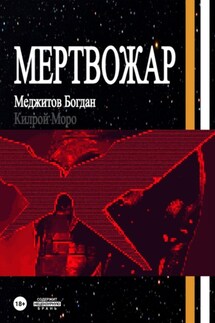Орфей! Орфей! - страница 3
Венера Улдашева была великой дарительницей.
И ничего не просила за свои дары.
Этой Венеры уже нет на земле.
А если и есть, то не та.
Небеса померкли, площади разворочены.
Впрочем, площади всегда были мерзкими.
Всё лучшее происходило среди деревьев и в траве, а не на площадях.
Именно благодаря Венере (и своей матери), я и понял, что во мне засел фашистский глист.
И сосёт, сосёт.
Как Злой Дух, угнездившийся в Уильяме Берроузе.
Я знал, как этот глист выглядит: точно как мои кишки.
И как мне от него избавиться?
Неужто носить в себе до конца?
Бог ты мой!
Так скорей же приходи, конец!
Если б я стал рассказывать обо всех своих микро-фашистских выходках, это заняло бы три толстых инкунабулы.
Чего я только не натворил!
Дрался.
Воровал.
Принуждал.
Намеревался убить (не раз и не два).
Ел зверей.
Насиловал (себя, свои и чужие мысли, слова).
Оскорблял.
Ревновал.
Надругался над чужим творением.
Завидовал.
Беспамятствовал.
Лгал.
И снова принуждал, дрался и воровал.
И не у кого больше попросить прощения.
Остановлюсь на самом, пожалуй, вопиющем безобразии.
В какой-то осатаневший период своей жизни я начал плевать на людей.
Буквально, физически.
На первый взгляд, это было частью моей художественной деятельности.
Ведь я заделался художником.
Но в действительности это происходило потому, что я слышал голос, науськивавший: «Иди и плюй!»
Сам бы я вряд ли до этого додумался.
Но голос требовал!
Думаю, это был голос того зелёненького Гитлера, которого я проглотил, сунув нацистскую марку в рот.
Он зудел, как комар в ночи:
– Ззззыыыыы!.. Ззззжыыыы!.. Иди!..
В сущности, я слышал голоса всегда.
Хотя я не психически больной.
Но и не «нормальный человек».
Многие вполне здоровые люди слышат голоса.
Идёшь по улице и вдруг откуда-то:
– Са-аашенька!
Но голос голосу рознь.
Бывают голоса блаженные, а бывают страшенные.
В раннюю пору жизни я слышал блаженный голос какого-то старика.
Он окликал меня – то ли с неба, то ли из глубин земли.
И я отвечал ему.
Это было хорошо.
Чей же это был голос в моём отрочестве?
Думаю, Достоевского.
Я его очень тогда любил.
Я его и сейчас люблю!
В детстве он мне нашёптывал:
– Чтоб исчезли твои горести, прикоснись к стволу вон того дерева. Прикоснись и озеленись!
Я шёл и делал, что он сказал.
Прикасался к карагачу, клёну или тополю.
К берёзе или яблоне.
Это удивляло моих друзей, с которыми я гулял.
Ведь я, как сумасшедший, отбегал от них посреди разговора, чтобы совершить ритуал прикосновения.
Они спрашивали:
– Зачем ты это делаешь? Что за дурь?
Уж не помню, что я им отвечал.
Знаю только, что прикосновение было безотказным средством от любых расстройств и неприятностей: от школьного ужаса, от скандалов с родителями, от подросткового уныния.
Это было священнодействие: прикоснуться к шершавому телу дерева.
Ритуал очищения.
Поклонение неведомым богам.
Поэзия.
Ну и вот.
А потом, когда я стал московским художником, блаженный голос заглушился сатанинским голосом.
Почему это произошло?
А уж так…
Современный художник – публичная персона, человек напоказ.
А всё, что напоказ – ложь.
Ван Гог не был напоказ.
И Эгон Шиле, и Арто.
Даже Монастырский, может быть.
Но все остальные нынешние – напоказ.
Интервью дают, за круглыми столами сидят, рефлексируют…
Но есть ли у них что сказать?
По-настоящему сказать – так, чтоб у людей щёки запылали, как факелы?
Это мало кому дано.
Фуко это мог.
И Делёз…
Или, скажем, Мейстер Экхарт в своих проповедях.