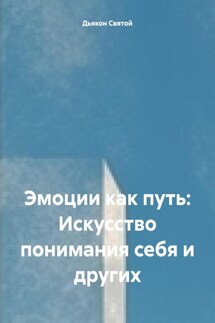Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления - страница 2
Британским властям два-три столетия назад, наверное, и в голову не приходило, что концептуальной задачей их деятельности является развитие в том специфическом смысле, который это понятие приобрело в ХХ столетии с подъёмом доктрины девелопментализма, подразумевающей, что менее развитые страны могут догнать – а то и перегнать – страны, ушедшие в своём развитии далеко вперед. Такая постановка проблемы в самом деле содержит отдельный вопрос: было ли развитие – понимаемое прежде всего как ускоренное развитие – осознанной задачей «архитекторов» раннего капитализма? Скорее всего, нет – и здесь достаточно привести лишь одну цитату из, пожалуй, главного экономического текста той эпохи – «Богатства народов» Адама Смита. Во введении к своему трактату он указывал, что предметом исследования в его первой части будут «причины прогресса в области производительности труда и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами и группами людей в обществе»[4]. Слово «естественный» я выделил курсивом неслучайно. Если в территориях глобального капиталистического ядра экономические успехи были действительно достигнуты во многом естественным образом – во всяком случае, без пресловутых планов или долгосрочных стратегий развития, – то не успевшим вскочить на этот поезд вовремя пришлось предпринимать не столь уж естественные усилия по развитию, инициированные «благими намерениями государства», цитируя заглавие, пожалуй, самой известной работы Джеймса Скотта[5].
В интервью, которое автор этого предисловия однажды взял у Вячеслава Глазычева, ныне покойный мэтр российской урбанистики обронил такую фразу: «Управлять развитием, честно говоря, ещё никто не научился»[6] – именно о ней стоит помнить, пытаясь ответить на вопрос о том, почему эти самые благие намерения государства зачастую либо заканчиваются крахом, либо приводят к совершенно иным, незапланированным результатам[7]. Доктрина девелопментализма, исходившая из представления о человеке прежде всего как о homo economicus, предполагала, что ускорение развития может быть обеспечено при помощи копирования технологий и лучших практик – были бы деньги у государства как главного инициатора и субъекта развития, – а управление развитием возьмут на себя соответствующие государственные институты во главе с веберовскими рациональными бюрократами. Однако реальность оказалась гораздо сложнее – анализу этой проблемы, собственно, и посвящено «Оружие слабых», равно как и остальные главные работы Скотта.
Государственные инвестиции в создание в Кедахе ирригационной инфраструктуры, позволившей получать два урожая риса в год, на первых порах действительно принесли желанный результат: в начале 1970-х годов доходы и уровень жизни практически всех крестьян выросли. Но всего через несколько лет оказалось, что интенсификация и механизация производства поставили рисоводов в неравное положение, которое уже было невозможно отыграть назад. И если ещё за несколько десятилетий до этого бедные крестьяне могли уходить на неосвоенное пограничье, чтобы расчищать там земли и начинать жизнь практически с нуля, то теперь этот выход для большинства оказался заблокирован: переселение на новые земли было охвачено государственными программами, попасть в которые могли лишь довольно состоятельные и политически благонадежные селяне.