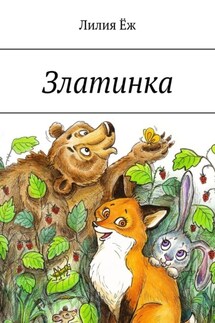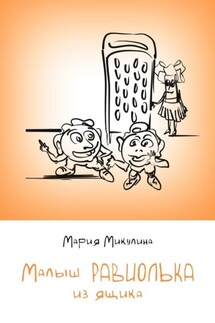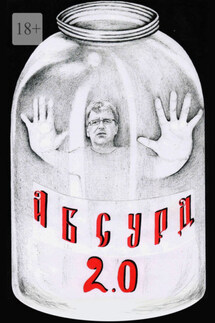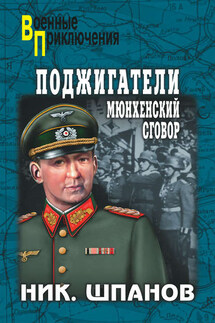Осень давнего года. Книга вторая - страница 23
Утром, едва рассвело, помещица велела заложить возок и по холодку отправилась в Преображенское.
– У Параши совесть проснулась, и гадины от нее убежали? – обрадовалась Светка. – Она решила помочь Марии с Демидушкой?
– Если бы! – вздохнул Кирилл Владимирович. – Едва ступив на порог отцовского дома, дворянка заявила родственникам: «Живо, черносошники, собирайте свое дранье и уходите отсюда! Да чтоб не больше котомки каждый из вас отсюда унес, слышите? Раз Афоньки больше нет, я здесь теперь хозяйка. Эта изба с постройками и огород – мои». Мария всплеснула руками и крикнула: «Нет, мы не уйдем!» Демидушка заплакал, испугавшись злой тети, и спрятался под лавку. Помещица уперла руки в боки: «Вот, значит, как? Не хотите добром чужое отдать? Так я силой свое заберу! Где уж вам, голодранцам, спорить со мной, дворянкой? Эй, слуги!» В избу ворвались два дюжих молодца. Схватили Марию под локти. Вытащили из-под скамьи малыша. Хотели сразу волочь их к выходу. Прасковья Дормидонтовна милостиво усмехнулась: «Ладно уж. Дайте им еды в дорогу взять да хоть какую-нито рухлядь в сумы увязать. Скоро зима придет. Куда ж им, убогим, без теплой одежи в путь пускаться?» – «Я не хочу в путь! – сказал мальчик. – Я нынче обещал матушке помочь: поленницу во дворе сложить, курей накормить, крыльцо подмести. Как же мне уйти? Тогда получится, что я ее обманул, а это негоже!» – «Ишь ты, какой помощник! – разгневалась Параша. – От горшка два вершка, а уж за мать заступается, обманывать ее не хочет. Праведник сопливый, работник бесштанный! Последний раз говорю: собирайтесь быстро и – вон. Не то голыми, босыми, без всякого корма христарадничать пойдете! Я не шучу». Мария, глотая слезы, увязала в сумы необходимые вещи, уложила съестное – лишь бы хватило на два дня, пока они с Демидушкой не дойдут до Москвы! А там уж, Бог даст, встанут мать с сыном на паперть в людном месте и протянут руки за подаянием. В скорбном молчании женщина оделась, потеплее укутала малыша. Бесстыдно обездоленные Парашей наследники Афанасия вышли из дома и побрели по сырой дороге в Первопрестольную. Там они присоединились к нищей братии, начали кормиться именем Христовым. Подавали странникам хорошо: добрые христиане очень жалели красивую молодую женщину и шестилетнего мальчика, оставшихся, как видно, без кормильца.
– А Дормидонта они там случайно не встретили? – с надеждой спросила я. – Втроем-то им веселее было бы!
– Нет, Ирина, бывший купец в это время уже ушел из Москвы. Объяснил он свое решение товарищам так: «Хочу по белому свету постранствовать, на чудеса его посмотреть, пока ноги еще ходят. Слушал я недавно здесь, у кремлевской стены, старцев седых, благообразных, кои сами себя „бегунами“ называли. Они мне рассказали, что есть далеко на Севере прекрасная земля – Беловодье. Лежит она в глубине окияна-моря на семидесяти островах. Страна сия тепла и плодородна. Омывается она молочной рекой. Живут там люди честно, справедливо, без татьбы и воровства. Нет в том крае ни бояр, ни князей. Все равно работают и добродетелью каждодневно украшаются. А самое главное, умеют тамошние жители вовсе обходиться без денег – этого соблазна дьявольского. Иначе почему бы, как баяли „бегуны“, и злато, и серебро, и разноцветный бисер в Беловодье просто так, бросово, под ногами валяются? Хочу я, братцы, дойти до того земного рая, да посмотреть на него, да придумать: как бы законы беловодские к нам на Русь перенести?» – «Сказки это, – возражали Дормидонту Ильичу нищие, – нельзя им верить». – «Может, оно и так, – легко соглашался бывший купец. – А что в сказках плохого-то? Супруга моя покойная очень их любила, детям нашим тайком нашептывала, коли думала, что я не слышу. Редкой красоты, и чести, и добросердия была женщина! Вот коли найду я то Беловодье, будет мне что свет-Аграфенушке на том свете рассказать, когда предстану после бытия моего грешного перед Всевышним. На том и прощайте, братцы, не поминайте лихом!»