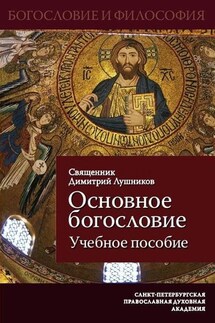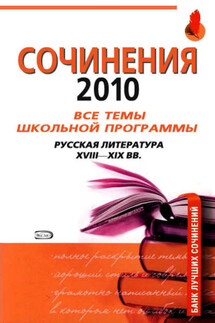Основное богословие. Учебное пособие - страница 13
Другой известный мыслитель древности, Сенека, полемизируя с эпикурейцами, утверждал, что чувственные удовольствия как цель человеческой жизни неприемлемы для человека, т. к. он есть существо духовное: «Чувственное удовольствие может быть благом разве что для неразумных животных, т. к. оно мимолетно, скоропреходяще и само в себе имеет конец, а истинная добродетель должна быть бессмертна и никогда не может погибнуть»[46].
Следует также отметить, что стремление к удовольствию не может быть реализуемо как условие достижения счастья по следующим причинам: во-первых, как бы человек не стремился к наслаждениям, удовольствия всегда остаются неизмеримо меньшими в отношении к страданиям, поскольку внешняя реальность остается неподвластной человеку. Во-вторых, наслаждения по интенсивности и продолжительности имеют предел, а страдания могут длиться бесконечно долго (напр., удовлетворение от приема пищи наступает в течение нескольких минут, и если попытаться продлить данное наслаждение, то это неминуемо приведет к страданию, связанному с перееданием, а голод человек может испытывать бесконечно долго и доходить при этом до самых страшных пределов (напр., людоедство)). В-третьих, удовольствие по своей свежести зависит от самого действия, а не от рефлексии и оценки его по сравнению с тем, что ожидалось: «Удовольствие только тогда удовольствие, когда возникает неожиданно и в своей непосредственности сосредотачивает наше внимание именно как на удовольствии. Когда же удовольствие намечено как цель, то по достижении его тотчас начинается суждение ума: насколько оно хорошо, а стоило ли оно таких хлопот к достижению; так или иначе интенсивность удовольствия понижается»[47].
Кроме того, серьезной проблемой эвдемонизма и утилитаризма является необходимость преодоления эгоизма как источника нравственной деятельности. Если человек будет смотреть на земные блага как на единственную цель своей жизни, то он неминуемо превращается в черствого эгоиста. «И самый сильный враг человека – его собственный эгоизм, заставляющий каждого смотреть на себя как на существо, которому обязаны все другие. Но если человеческая деятельность будет определяться только по эгоистическим мотивам, то никакое общественное благосостояние не будет достижимо и общественная жизнь станет немыслима»[48]. Если у человека нет никаких высоких идеалов жизни, то его не радует и не печалит ни счастье и ни горе ближнего. Другой человек для него лишь орудие для осуществления своих личных целей, которые настолько же призрачны и неудовлетворительны, насколько изменяема и преходяща материя в ее видах. Как бы ни утверждался человек в достижении материального, все равно удержать этого навсегда он не сможет.
Когда человек живет животной жизнью и предан чувственным благам, тогда перемещение себя в центр существования возможно лишь по отношению к немногим лицам (жене, детям, друзьям), и то лишь на мгновение, потому что «чувственные блага ограниченны и при разделении их с другими они уменьшаются количественно, а вследствие повторения чувственного удовольствия притупляются»