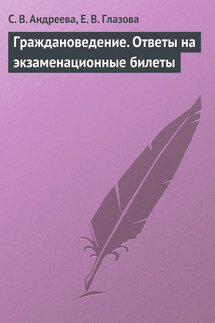От философии к прозе. Ранний Пастернак - страница 2
Данный вывод несомненно справедлив, но именно с такой же осторожностью следует подходить к абсолютно всем взаимоотношениям Бориса Пастернака с его наставниками и творческими предшественниками – это касается даже его безусловного восхищения немецким поэтом Райнером Марией Рильке4. Ни один из интеллектуальных интересов Пастернака, как задокументированных, так и выводимых умозрительно, нельзя «механически или напрямую» применять к его творчеству: как правило, любые прямые или косвенные сравнения его с другими литераторами и философами не становятся плодотворными для исследования. В 1923 году Евгений Замятин, прозорливый критик и блистательный литератор, прочитав «Детство Люверс», отметил, что даже среди других талантливых экспериментаторов Серебряного века Борис Пастернак остается «без роду и племени»5. Флейшман, собрав архивные материалы о социальном окружении Пастернака в 1920‐е годы, отмечает, что его творческая жизнь протекала в изоляции от конкретных событий литературной и культурной жизни того времени (Флейшман 1980, 7). Неоспоримая творческая самобытность раннего Пастернака подтверждается и сохранившимися воспоминаниями, которые свидетельствуют об эксцентричности его общения с окружающими. В изданной в серии ЖЗЛ биографии поэта Дмитрий Быков с удовольствием цитирует замечание Фазиля Искандера о том, что впечатление от лирики молодого Пастернака сильно напоминает общение с «очень пьяным, но интересным человеком» (Быков 2006, 57). И, подчеркнув эту особенность, Быков оценивает раннюю прозу как не заслуживающую серьезного внимания: она «и субъективная, и фрагментарная, и трудная подчас для понимания» (Там же: 434). К этому легко прибавляется вывод А. Жолковского о Пастернаке как «экстатической» личности: «На каждой странице у Пастернака – образы взлета, восторга, сверкания, великолепия» (Жолковский 1994, 283). Действительно, портрет Пастернака, и в особенности раннего Пастернака (равно как и оценка его ранней прозы), сложился уже давно: он предстает как необычно талантливый и пылкий литератор, с трудом понимаемый собеседниками: обычно он «гудел», причем все знакомые отмечали его интонацию – «диковатую, веселую, изумленную» (Быков 2006, 54).
Рассматривая философские мотивы в ранних произведениях Пастернака, я ставлю перед собой задачу переосмыслить этот устоявшийся портрет – воплощение восхищенной и эксцентрической несдержанности. При всей пылкости поэта невозможно не отметить явную уклончивость Пастернака в ответах на вопросы, как именно любимые им художники повлияли на него как литератора. Как замечают почти все его исследователи, не только Юрий Живаго, но и его автор «еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать» (IV: 66). Более того, упорная уклончивость Пастернака в том, что касалось влияний на его творчество, не исчезла и в послереволюционный период, когда Пастернак уже отказался от своего «веселого гудения» и начал избегать нарочитой усложненности6. Он, конечно, никогда не переставал указывать на всех мастеров, которым поклонялся, но на всем протяжении его творческого пути – вне зависимости от того, простым или сложным был его стиль, – концептуальная основа его произведений продолжает ставить нелегкие задачи и перед читателями, и перед критиками.