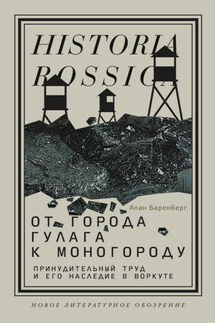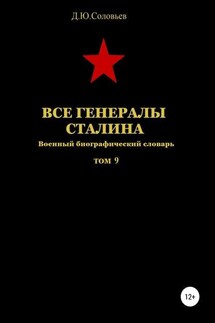От города ГУЛАГа к моногороду. Принудительный труд и его наследие в Воркуте - страница 6
Конечно, объем знаний, которые можно извлечь из локальной истории, серьезно ограничен. В конце концов, Воркута была всего лишь одним из десятков тысяч советских городов. Кроме того, некоторые аспекты ее истории уникальны: отдаленное местоположение, экстремальная природная среда, тот факт, что ее заселение началось в сталинскую эпоху, и ее тесная историческая связь с развитием обширной системы принудительного труда. Очевидно, Воркуту нельзя считать типичным советским городом. Но благодаря некоторым чертам, придающим Воркуте исключительность, она также является очень ценным объектом исследования, потому что из‑за них определенные явления становятся заметнее и понятнее. Например, Воркуту построили глубоко в тундре, где никогда не было постоянного населения, – посреди огромной территории, по которой ненцы-оленеводы пасли свои стада во время летних перекочевок13. Благодаря такому местоположению Воркута – хороший пример того, как советские руководители стремились трансформировать пространство путем колонизации и принудительного труда; но это же демонстрирует и пределы возможностей государства на пути к этой цели. С одной стороны, история Воркуты – это история конкретного места. Но если правильно вписать ее в более широкий контекст советской истории, нам откроется немало таких сторон Советского Союза, которые легко упустить в более масштабных исследованиях.
ПРОСТРАНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ В ГОРОДЕ ГУЛАГА
В этой книге я не только проблематизирую хронологическую границу между сталинской и послесталинской эпохами, но и пытаюсь по-новому интерпретировать природу пространства и идентичности в Советском Союзе, особенно в тех многочисленных регионах Советского Союза, где важную роль играл ГУЛАГ. В этом отношении моя книга принадлежит к новому научному течению, утверждающему, что ГУЛАГ был куда теснее связан с советским обществом, чем предполагалось ранее. До девяностых годов большинство историков советского ГУЛАГа обычно следовали подходу Александра Солженицына, примененному им в эпохальной работе «Архипелаг ГУЛАГ». С его точки зрения, ГУЛАГ был другим миром, отделенным от остального Советского Союза рядом «заборов – гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград»14. Как только человек становился из свободного заключенным, переходил из одного мира в другой, он уже не имел возможности вернуться назад, по крайней мере до полного и окончательного освобождения. В некотором смысле это были две разные и непересекавшиеся реальности. Как видно из названия его грандиозного труда о ГУЛАГе, если не всегда из конкретных фактов, изложенных на его страницах, Солженицын определял отношение между ГУЛАГом и советским обществом через метафору архипелага: советские лагеря и спецпоселения были островами, отдельными от материка советского общества. Эта метафора ГУЛАГа как «архипелага» оказалась долгоживущей и послужила базовой предпосылкой многих работ о советском терроре и местах заключения15.
Но за последние двадцать лет новые подходы и новые источники заставили историков пересмотреть природу ГУЛАГа и его место в советском обществе. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов доступ в советские архивы значительно упростился, и исследователи стали открывать о жизни в ГУЛАГе факты, ранее не столь очевидные. Например, из официальных статистических данных ГУЛАГа обнаружилось, что каждый год освобождалось 20–40% населения лагерей и колоний, даже на пике сталинского террора