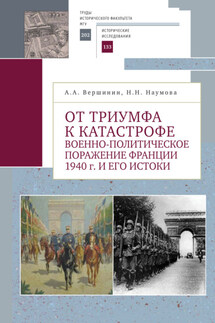От триумфа к катастрофе. Военно-политическое поражение Франции 1940 г. и его истоки - страница 31
Чтобы планировать, предвидя будущую войну, а не отталкиваясь от опыта предыдущей, требовалась во многом уникальная ситуация, в 1920-х гг. сложившаяся в Германии: сильная, в ряде отношений лучшая в мире военная мысль, которая уже в ходе сражений 1916–1917 гг. нащупала пути выхода из позиционного тупика путем внедрения новой тактики боя; возможность проводить «чистый эксперимент», строя новую армию «с нуля»; мощная мотивация военных всех уровней, имевших перед собой ясную цель, и политиков, давших им карт-бланш в вопросах военного строительства[194]. Французское нежелание рисковать, когда риск мог иметь фатальные последствия, на этом фоне выглядит логичным. Однако остается другой вопрос: почему та сила, которая одержала победу в 1918 г., деградировала до состояния «штата для подготовки [резервистов – авт.], не способного даже к организации обороны»[195]?
Петэн в середине 1920-х гг. отдавал себе отчет в том, что французская армия находится в кризисе. На заседании Высшего военного совета в мае 1925 г. он констатировал: «Армия сейчас пребывает в плачевном состоянии. Это машина, которая работает на холостом ходу». Через год при обсуждении вопросов укрепления границ он выразился еще жестче: «Наша армия находится в состоянии полного распада. У нас нет ничего. Реорганизация армии должна иметь приоритет перед строительством укреплений… Если у нас не будет армии, укрепления нам не помогут. Армия – важнее всего»[196]. В то же время маршал мало что сделал для исправления подобного положения дел. Перед лицом новых вызовов армейское командование действовало неуверенно.
Военные были дезориентированы. В стране не существовало того института, который формулировал бы единый взгляд вооруженных сил на цели и задачи военного планирования. «Спор вокруг близкой Петэну проблемы формирования единого командования постоянно возникал, но всегда оканчивался безрезультатно»[197], – пишет биограф маршала. Сухопутная армия, флот и обособившиеся к концу десятилетия военно-воздушные силы выдвигали различные, несогласованные между собой повестки развития, которые часто вступали в конфликт друг с другом. В 1930 г. во Франции существовало три отдельных министерства, ведавших обороной и имевших собственные генеральные штабы, – военное, военно-морское и военно-воздушное. Каждое из них ревниво оберегало свою автономию и конкурировало с другими за ресурсы. К концу 1920-х гг. на фоне недофинансирования армии вперед вырвался флот. С 1922 г. министерство ВМФ с успехом избегало всех бюджетных сокращений и смогло сконцентрироваться на строительстве современных кораблей и подводных лодок[198]. В результате создания профильного министерства в 1928 г. армия и флот лишились собственных военно-воздушных сил, и если ВМФ в 1932 г. добился передачи ему контроля над морской авиацией, то армия на годы вперед оказалась в ситуации, при которой она не могла непосредственно влиять на развитие рода войск, чье значение для сухопутной войны становилось все более очевидным.
Внутри военного министерства и командования сухопутных сил также не было единства. Полномочия и ответственность распылялись между множеством ведомств. Ж. Дуаз и М. Вайс приводят пример: «Управления родов войск зависят непосредственно от министра и, таким образом, не подчинены начальнику Генерального штаба. Поэтому власть генерального секретаря министерства, изначально распространявшаяся на финансовые и правовые вопросы, постоянно увеличивается и “подменяет собой работу Генерального штаба”»